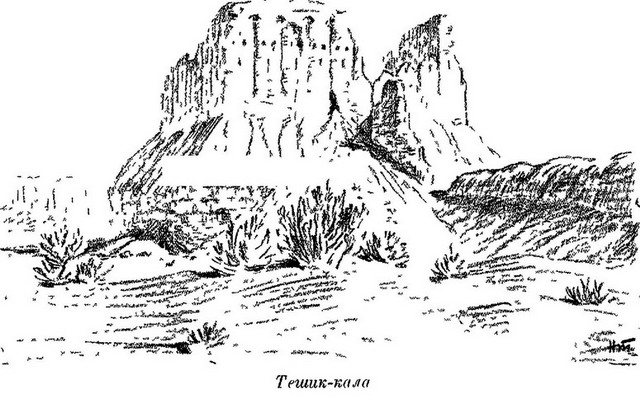I. МОНЕТЫ СИЯВУШИДОВ-АФРИГИДОВ
«В это время в народе (Бухары) обращалась
хорезмийская серебряная монета».
Нершахи. Тарихи-Бухара
В 1850 г. в I томе собрания сочинений Н. К. Е. Кohler’ а была опубликована свинцовая(?) монета «неизвестного царя» из собрания одного коллекционера в Петербурге1.
На лицевой стороне эта монета имела «бюст царя с большой бородой и длинной шевелюрой, повернутый вправо; тиара, увенчанная головой орла». На реверсе — надпись, которую Кёлер передал так: *** и «фигура царя на коне, идущем слева направо»2.
Эта публикация долго оставалась одинокой. Лишь через 20 лет, в 1870 г. в «Numismatic Chronicle» вышла статья Edw. Thomas’a «Индо-парфянские монеты»3, в которой было опубликовано и исследовано пять, хотя и отличных от опубликованной Кёлером, но, несомненно, принадлежащих к той же группе монет.
Как и в первом случае, эти монеты происходили из России, и репродукции их были присланы Томасу на определение нашим выдающимся ориенталистом и нумизматом В. Тизенгаузеном.
Четыре из этих монет были найдены «в маленькой бронзовой вазе в Пермской губернии»4.
Опубликованные Томасом монеты имеют по сравнению с монетами Кёлера другого характера надпись. Отличен и головной убор. Лицо царя безбородо. Но на реверсе мы найдем ту же фигуру всадника вправо, хотя и несколько иначе трактованную, и, что самое главное, в поле реверса, влево от всадника, расположена тамга ***, тождественная той, которая налицо на том же месте на монете Кёлера5.
Пятая монета в публикации Томаса оказалась отличной по типу реверса.
В центре его, вместо всадника, был тамгообразный знак в виде трезубца или трехсвечника, поставленного на горизонтальную черту.
Томас впервые определил арамейское происхождение знаков алфавита этих монет и сделал первую попытку их чтения; в надписи он в первых четырех знаках видел MRK’, считая первый и четвертый знаки различными и видя здесь известную арамейскую идеограмму MLK’ — «царь», заменявшую в древнеиранских текстах местный царский титул. В заключительных знаках надписи он видел знаки алфавита, отличного от шрифта первых четырех букв, и пытался, сближая их с пехлеви, читать, их как Shahah или Shemach6.
На оборотной стороне одной из монет над крупом коня была обнаружена отличная по характеру надпись, которая, по словам Томаса, в Петербурге, повидимому, Тизенгаузеном была прочитана как арабский термин «фадл» [174] «excellence, wisdom». Это чтение Томас ставит под сомнение, считая более вероятным видеть здесь курсивную надпись на том же напоминающем пехлеви алфавите, который представлен в надписи против лица царя на лицевой стороне той же монеты7.
Формальный анализ этих монет, произведенный Томасом, привел его к выводу, что эти монеты, характер изображений на которых ближе всего напоминает индийскую иконографию, чеканились индо-парфянскими царями.
Тринадцать лет спустя, в 1883 г., Томас вновь вернулся к этой группе монет8. В своей новой статье «О парфянских и индо-сасанидских монетах» он опубликовал репродукцию серебряной монеты из собрания Эрмитажа, полученную им, как и в первом случае, от Тизенгаузена,
По характеру изображений эта монета оказалась тождественной с монетой, опубликованной Кёлером. Тизенгаузен в письме, опубликованном Томасом, обратил внимание на сходство этой монеты с «индо-парфянскими» монетами Томаса и, вместе с тем, отметил характерную аналогию между этими монетами и вызвавшей большую дискуссию группой среднеазиатских эллинистических монет, — так называемых «монет Герая», как считает А. Н. Зограф9, чеканенных в I в. до н. э. одним из кушанских правителей Северной Бактрии.
Это характерный ободок из продолговатых ромбовидных бус, отделенных друг от друга парными поперечными черточками.
Томас отметил, с одной стороны, сходство «орлиной короны» с головным убором, введенным Шапуром I (241 — 272)10. Остальные признаки — «хаотические следы» греческих букв, характер реверса и др. привели Томаса к выводу о близости этой монеты к монетам «бактрийской группы Азеса».
Надпись на реверсе Томас интерпретирует иначе, чем Кёлер: он видит здесь незамеченную Кёлером тамгу, греческие буквы видит лишь в верхней части надписи, читая их «A VAOG — Azilisas?» (имя одного из индо-сакских царей 1 в. до н. э.). В надписи под ногами коня он видит арамейские знаки и пытается читать MLK’ — «царь».
Через 9 лет этой группой монет занялся наш известный нумизмат А. К. Марков11. Им были опубликованы три монеты этой группы — две из собрания Гос. Эрмитажа, поступившие из коллекции Гранта в Бомбее, и одна из коллекции А. В. Комарова. Две из этих монет — серебряные драхмы, довольно близки к опубликованным Томасом в 1870 г., но лучшей сохранности и с несколько отличной легендой. Третья — медная, с тем же типом реверса, но с изображением на лицевой стороне царя в зубчатой короне, правильно сопоставленной Марковым с короной сасанида Варахрана V (420 — 438).
Марков отвергает предложенное Томасом определение этих монет как индо-парфянских, но, отмечая наличие признаков, связывающих эти монеты, с одной стороны, с индийской, с другой — с сасанидской нумизматикой и подчеркивая сходство проходящей через большую часть монет тамги с тамгой кушанских царей, особенно Хувишки, пытается видеть в них монеты последних представителей кушанской династии (как он предпочитает говорить — «династии Турушка»).
Следующая попытка дать новое определение этим монетам принадлежит известному французскому ориенталисту-нумизмату Э. Друэну и изложена в его рецензии на цитированную выше работу Маркова12.
Он дает такую характеристику этих монет, как бы суммирующую все, что можно было извлечь из их формального анализа, не зная их происхождения: «По типу реверса — царь на коне, напоминающему монеты Азеса, Сотера Мегаса, Азилиса, по монограмме, сближающейся с монограммой Хувишки, по царскому бюсту, эти монеты представляют смешение всех эпох и стран. Неизвестно, причислять ли их к монетам аршакидов, индо-парфян, сасанидов Индии или правителей Туркестана. Легенда арамейским шрифтом, который, повидимому, является видоизменением халдео-пехлеви V в., может, когда она будет дешифрована, нам указать на национальность и эпоху этих странных монет. Во всяком случае, я не думаю, что они принадлежат к серии Турушка; я думаю, что они гораздо более поздние и что они были чеканены в Согдиане по типу монет Бахрама-гура. Рисунок, который г. Марков дает на стр. 35 и который представляет медную монету из коллекции Комарова, имея тот же реверс и ту же легенду, показывает, что есть связь между нашими серебряными монетами и согдийскими монетами, обращавшимися позднее в Бухаре13. Они могли [175] быть чеканены эфталитами до их изгнания из Согдианы тюрками около 555 г. н. э.».
В 90-х годах эти монеты стали предметом рассмотрения еще ряда исследователей. Rapson, опубликовавший в 1896 г. монету этого типа из собрания генерала Эббота14, приводит неопубликованные мнения о них Кэннингэма (к которому присоединяется сам) и Генри Говорса. Согласно последнему, эти монеты были чеканены тюркскими завоевателями эфталитских владений после 555 г. Кэннингэм и Рэпсон присоединяются к мнению Друэна об эфталитском происхождении этих монет, но отодвигают их дату к более позднему времени — вероятно, к VII в. н. э., и предполагают, что они могли быть чеканены в западной части эфталитских владений, где-то у Каспийского моря, где эфталиты могли сохранить свою независимость и после завоевания турками остальных владений эфталитов.
Суммируя все данные и заключения о наших монетах, имевшиеся налицо к1937 г., мы можем отметить:
1. Большая часть известных до экспедиции1937 г. монет происходила из пределов СССР — в том числе ряд монет, и как раз те, происхождение которых известно с точностью хотя бы до губернии, — из Прикамья.
2. Эти монеты по типу реверса связываются с индо-сакскими монетами группы Герая, Азеса, Азилиса и других варварских правителей Бактрианы и бассейна Верхнего Инда I в. до н. э. и первых десятилетий нашей эры.
3. Изображения на лицевой стороне одними признаками связываются с индийской, другими — с сасанидской иконографией.
4. Единство серии подчеркивается единством (за исключением одной монеты) тамги, сближающейся с тамгою кушанов (Хувишка).
5. Монеты одного из царей этой серии выделяются из нее характером изображений царя (длиннобородый в головном уборе в виде орла) и легендой, где, наряду с знаками арамейского происхождения, налицо «хаотические следы греческих букв» (однако тип изображения на реверсе и тамга не оставляют сомнения в принадлежности монет к этой серии).
6. На остальных монетах легенды сходны между собой и состоят из знаков арамейского происхождения.
7. На одной из монет, опубликованных Томасом, на лицевой стороне против лица царя имеется курсивная надпись, а на реверсе, над крупом коня, знаки, которые петербургский корреспондент Томаса, повидимому Тизенгаузен, рассматривал, как арабское слово «фадл». Однако это чтение было отвергнуто и Томасом и Марковым.
II
За четыре года работ Хорезмской экспедиции нами собран значительный нумизматический материал. Основная масса — около 1000, преимущественно медных монет, восходит к домусульманскому времени. Они собраны нами главным образом на городище Топрак-кала и в его окрестностях (это городище дало наиболее обильные сборы), в окрестностях Наринджана и Беркут-кала и примыкающих к ней замков, в Ангка-кала, Улы-Гульдурсун, Кош-парсан, Джильдык-кала, Аяз-кала. Несколько монет, как указано выше, найдено при раскопках Тешик-калы и замка № 36. Все монеты, за исключением нескольких кушанских и одной сасанидской, принадлежат к только что описанной серии, обогащая ее рядом новых вариантов15. Мы думаем, что приведенного достаточно, чтобы решить вопрос о происхождении этих «странных», по выражению Друэна, монет. Это происхождение может быть только хорезмийским16.
О том, что в домусульманском Хорезме чеканилась монета, — нам известно из показаний Нершахи17, согласно которому хорезмийские диргемы в VIII в. даже вытеснили в Бухаре из обращения местную монету.
До сих пор под именем «хорезмийских монет» в литературе фигурировала одна из недатированных серий монет среднеазиатского происхождения с изображением жертвенника на реверсе. Это наименование введено было Друэном, попытавшимся расклассифицировать «туранские монеты» и отнесшим предположительно эту серию к Хорезму18. Это же [176] определение повторил недавно Allote de la Fuye19.
Ни одной монеты этой серии хорезмская экспедиция за все 4 года работы не обнаружила, что заставляет также окончательно, и на этот раз отрицательно, решить вопрос о хорезмийском происхождении «хорезмийских монет» Друэна.
Характерно, что заключение о хорезмийском происхождении наших монет вовсе, как оказывается, не ново. Когда 22 марта 1938 года мы получили возможность ознакомиться с монетами этой серии, хранящимися в Гос. Эрмитаже, мы обнаружили, что они хранятся под этикеткой «монеты царей Хорасмии с тамгой ***». Как удалось выяснить, это определение принадлежит, А. К. Маркову, изменившему таким образом в конце жизни свою датировку 1892 г. Об этом сообщает А. В. Шмидт, который пишет в своей работе «Туйский всадник»: «В 1892 г. А. К. Марков датировал эти монеты предположительно III — IV вв. и относил их к поздним Кушанам. После, повидимому, он изменил свое мнение, так как в Эрмитажном собрании они сопровождаются пометкой рукой Маркова же: «хорасмийские», причем последние из них отнесены к эпохе начала арабского господства в Хорезме»20.
Видимо, А. К. Марков сделал это, руководствуясь новыми данными, — скорее всего значительным поступлением этих монет из Хорезма. Весьма возможно, что роль тут сыграли сборы известного коллекционера Вундцетеля, именем которого помечены некоторые из монет Эрмитажного собрания. Не знаем, считал ли Марков этот вывод не окончательным, или просто не успел опубликовать своего заключения, но, во всяком случае, этот факт является лишним доводом в пользу правильности нашего определения.
К монетам нашей коллекции, путем привлечения монет Гос. Эрмитажа (40 экз., большей частью серебряные) и Гос. Исторического музея (4 экз., серебро), слепки с которых мы имеем в нашем распоряжении благодаря исключительной любезности А. Н. Зографа, А. А. Быкова и Е. В. Веймарна, мы смогли прибавить значительный материал, в массе лучшей сохранности, чем собранный экспедицией. В целом мы располагаем сейчас серией свыше 1000 древнехорезмийских монет, являющейся уже довольно солидной базой для исследования. Вся серия может быть нами подразделена прежде всего на 2 основных группы:
Группа АА1а (сиявушидские) тетрадрахмы с бородатым (в одном случае безбородым) изображением царя вправо; высокий рельеф изображения; на реверсе — вокруг традиционной фигуры всадника справа — надпись, замкнутая слева тамгой ***.
Верхняя часть надписи греческая, нижняя хорезмийская, за исключением одной монеты, найденной в 1940 г. в Топрак-кала и имеющей легенду только греческими буквами и тамгу несколько иной формы ***. (Табл. 84, 1 — 13).
На медных монетах этой группы на реверсе — в центре та же тамга, окруженная иногда несколькими знаками хорезмийской надписи. Монеты — небольших размеров, но массивные. Рельеф изображений, как и на серебряных монетах, высокий.
По изображениям царей на серебряных монетах здесь может быть выделено пять правителей. По легендам — выделяются 4 имени. По медным монетам этой группы выделяется большее количество царей — по крайней мере 7 — 8.
Две серебряные монеты, одна из которых имеет бородатое, другая безбородое изображение царя, имеют одинаковую легенду. Они объединяются также и некоторым видоизменением тамги, приобретающей здесь вид S. (Эта тамга часто встречается на очень мелких медных монетах, не имеющих изображения на аверсе.)
Греческая надпись сильно деформирована. На наиболее поздних монетах этой серии она приобретает характер простого орнамента.
В наиболее полном виде она выглядит несколько иначе, чем ее изображал Томас: ***.
Я склонен видеть здесь сильно деформированную имитацию греческого начертания ***. Надпись на монете с одними греческими знаками не поддается дешифровке. По плану расположения легенды и характеру сочетания букв мы заключаем, что это просто имитация греческой легенды монет Эвкратида, исполненная мастером, не знавшим греческого языка (см. ниже).
По типу реверса, по весу, фактуре, рельефу изображения, по отмеченному выше ободку из продолговатых бус монеты этой группы, несомненно, примыкают, как уже отмечалось Тизенгаузеном, Томасом и Друэном, к «сакско-бактрийской группе» — к монетам прежде всего Герая, а также Азеса, Азилиса, Сотера Мегаса, Гондафара, в свою очередь генетически связанной с греко-бактрийскими монетами Эвкратида с изображением Диоскуров на реверсе.
Ближе всего наши монеты примыкают к монетам Герая. [177]
Эта зависимость хорезмийской чеканки от греко-бактрийской имеет большое культурно-историческое значение, вскрывая новую сторону культурных связей древнего Хорезма. Одновременно она позволяет поставить на новом материале вопрос о политических связях Хорезма около начала н. э., поднимая, таким образом, большие вопросы политической истории Средней Азии в этот темный период.
Вместе с тем близость головных уборов царя в орлиной короне с убором Шапура I и, прибавим мы, Варахрана II (276 — 293) и, особенно, Гормизда II (303)21 и сходство головного убора безбородого царя с одним из уборов Ардашира I (224 — 241)22, вместе с тем фактом, что китайские хроники, лишь начиная с Бейши, охватывающей период с 386 по 618 г., говорят о коронах и престолах среднеазиатских царей в виде птиц, животных и рыб23, заставляет предполагать, что большая часть монет нашей серии не восходит глубже III в. н. э., когда эти колоритные уборы получили широкое распространение в Средней Азии и Иране, сменив простые формы уборов парфянского и кушанского времени (исключение составляют монеты с одной греческой надписью, которые, видимо, восходят еще к I в. до н. э.).
Однако есть основания предполагать, что наши монеты являются не наиболее ранними хорезмийскими монетами, что им предшествовали не представленные пока в нашей коллекции типы.
Для решения вопроса о возникновении хорезмийской чеканки мы должны остановиться на имеющей уже большую литературу проблеме «монет Герая», в советской литературе исследованной А. Н. Зографом24.
Работа А. Н. Зографа, посвященная публикации и исследованию относящихся к этой эпохе материалов советских нумизматических собраний Ленинграда и Ташкента, является ценным вкладом в разработку этого круга проблем.
Монеты «Герая», первая из которых была опубликована Гарднером в 1874 г.25, имеет на лицевой стороне изображение бюста царя, обращенного вправо, с повязкой на волосах, одетого в характерный кафтан с отворотами, а на обороте — конную фигуру венчаемого Никой царя и греческую надпись, читаемую большинством исследователей: ***.
Лишь Кэннингэм (1888)26, а в последнее время Аллот де ля Фюй (1925)27 читали иначе второе слово, видя здесь *** и пытаясь отожествить «Миая» с индосакским царем Мауэсом.
Ольденбергу (1885)28 принадлежит принятое с тех пор всеми истолкование слова *** как племенное имя кушанов (*** на монетах «Великих Кушанов»).
После публикации Гарднера эта серия монет была предметом анализа в работах Томаса29 Саллета30, Ольденберга31, Кэннингэма32, В. Отто33, Рэпсона34, Аллот деля Фюй35 и Г. Батайль36, взгляды которых А. Н. Зограф детально анализирует в вводной части цитируемой работы.
Если ни у кого из перечисленных авторов не вызывает сомнения отнесение этих монет к территории, входившей в 250 — 140 гг. до н. э. в состав Греко-Бактрии, и к периоду, последовавшему за падением греко-бактрийского царства под ударами варваров-завоевателей, то в отношении более точной хронологической и географической датировки, как и в отношении чтения легенды монет, в литературе налицо весьма значительное разногласие.
Эти разногласия могут быть охарактеризованы словами А. Н. Зографа: «Даты, дававшиеся этим монетам, колеблются между 128 до н. э. и 100 г. н. э. Что касается территории, на которой они обращались, то и здесь можно отметить расхождение между районом к югу от Кабула, с одной стороны (Cunnigham), и северным Афганистаном — с другой»37.
Публикуемый А. Н. Зографом материал значительно расширяет количество доступных для исследования монет, доводя число тетрадрахм до 15 вместо 9 ранее известных, и число оболов до 12 вместо 11. Вместе с тем работа А. Н. Зографа является значительным шагом вперед в разработке вопроса.
Заслуживает большого внимания сравнительное изучение веса, фактуры и типа монет38. Сопоставление с материалами [178] греко-бактрийской, парфянской, селевкидской и индо-сакской нумизматики приводят автора к убедительным заключениям, которые можно свести к нижеследующим основным положениям:
1. «Тетрадрахмы «Герая», как видно, по своим весовым данным примыкают к тетрадрахмам Орода I (57 — 37 гг. до н. э.) и к римской чеканке в Антиохии (47 — 20 гг. до н. э.)»39.
2. По фактуре, отличаясь от греко-бактрийских и раннепарфянских тетрадрахм, «они находят близкие аналогии в парфянских тетрадрахмах, начиная с Санатрука (77 — 70 гг. до н. э.), и, в особенности, в тетрадрахмах Филлипа Филадельфа (92 — 83 гг.) и Тиграна Великого (83 — 66 гг.)»40.
3. Типологически эти монеты — по наличию характерного ободка из продолговатых бус — примыкают к типу греко-бактрийских монет Эвкратида и Гелиокла, к монетам последних Селевкидов, в меньшей степени — к монетам парфянских правителей начала I в. до н. э.41 По плану расположения надписи они примыкают теснее всего к монетам Эвкратида, резко отличаясь в этом отношении от монет индоскифских царей Пенджаба и индо-парфянеких царей Арахозии и Сакастана. В последнем обстоятельстве А. Н. Зограф видит «главное доказательство, что эти последние (монеты «Герая». — С. Т.) прежде всего территориально не связаны с индо-скифской и индо-парфянской группами и восходят, независимо от них, к общему источнику — бактрийским монетам»42. (По наличию фигурки Ники, венчающей царя, А. Н. Зограф, вслед за Томасом, связывает монеты «Герая» с монетами Фраата IV (37 — 4 гг. до н. э.) и (в меньшей степени) Орода I (57 — 37 гг. до н. э.). Однако автор не видит в этом причины снижать датировку монет «Герая», отмечая факт проникновения мотива венчания в парфянскую монетную типологию еще в первую половину I века до н. э.43.
4. Появление квадратного ***, проникающего в парфянскую нумизматику в правление Орода I, при сохранении *** вместо появляющейся обычно вместе с квадратным *** лунарной сиплы, позволяют автору притти к заключению, что «мы имеем здесь еще не установившуюся переходную стадию в развитии шрифта и позволяют не видеть в квадратной форме *** решительного препятствия к тому, чтобы отнести монеты «Герая» ко времени около середины I в. до н. э., как это, повидимому, вытекает из перечисленных выше весовых, фактурных и типологических аналогий»44.
5. Опираясь, помимо приведенных выше соображений, также на данные новых находок в пределах Узбекистана (Ташкент, Термез), А. Н. Зограф приходит к общему выводу, что монеты «Герая» были чеканены около середины I в. до н. э. в северном Афганистане (к северу от Гиндукуша), наиболее приближаясь в этом отношении к датировке Аллот де ля Фюй (1925). Посредствующим звеном между монетами «Герая» и их ближайшим прототипом — монетами Эвкрадита и Гелиокла — А. Н. Зограф считает варварские подражания монетам последних, имевшие хождение в Средней Азии после падения Греко-Бактрии.
В отношении чтения легенды, вызвавшей, как мы видели, большие споры в литературе, А. Н. Зограф в основном примыкает к чтению и толкованию, данному в статье Батайля (1928) и приведенному нами в начале.
А. Н. Зограф склонен принять как наиболее вероятный перевод легенды: «Правящего (царствующего) Герая, властителя, Кушана».
Из четырех слов надписи первое не вызывает сомнения. В чтении и интерпретации второго — предполагаемого имени царя — А. Н. Зограф сохраняет чтение П. Гарднера, снабжая это, однако, серьезными оговорками45. Отмечая, что принимаемая за Р черточка между Н и А встречается на некоторых монетах между А и О, автор приходит к заключению, что «чтение имени «Герая» приходится принимать лишь как одно из наиболее вероятных», и соответственно этому везде замыкает его в кавычки.
Что касается третьего слова, А. Н. Зограф считает «единственным более или менее вероятным» предложенное Кэннингэмом и принятое Батайлем истолкование слова *** «как греческой передачи туземного титула tsanyu» (в обычной русской транскрипции «шаньюй»), титул, даваемый китайскими источниками правителям хуннов. Однако А. Н. Зограф выдвигает, в качестве возможных, еще два варианта истолкования этого загадочного слова. Во-первых, он обращает внимание на наличие ***, *** в начале большого количества иранских имен типа Санабар, Санатрук и др.46. Во-вторых, он считает возможным указать на то, что столица одного из юечжийских ябгу, в период между завоеванием юечжийцами Греко-Бактрии и образованием Кушанского царства, носила название Sang-bi (транскрипция de Groot’a, русская транскрипция — Шуанми). «Может ли это имя быть сопоставлено с нашим **** (***)?», задает он вопрос специалистам47. [179]
В истолковании последнего слова *** А. Н. Зограф примыкает к ольденберговскому чтению.
Переходя к анализу выводов А. Н. Зографа, мы должны целиком присоединиться к тем сомнениям и оговоркам, которыми он снабжает свое чтение и истолкование легенды — прежде всего второго и третьего ее слова. Чтение «Герая» может быть принято лишь как условное обозначение, своего рода «идеограмма» не поддающегося чтению и истолкованию слова, которое с одинаковым успехом может читаться *** ~ *** ~ ***, *** и т. д. А если учесть, что чтение второго знака — Р — остается гипотетичным и что фонетически Р=S (в слове ***), количество возможных вариантов еще возрастает. Ниже, в связи с нашими находками, я позволю себе еще вернуться к этому вопросу.
(Не меньше сомнений возбуждает и третье слово. Я никак не могу присоединиться к А. Н. Зографу в оценке истолкования Кэннингэма. Чтение «шаньюй» или, как предпочитает писать А. И. Зограф, tsanyu, мне представляется совершенно неприемлемым ни филологически, ни, особенно, исторически.
Нельзя, кстати, не отметить совершенно напрасного пиэтета наших исследователей (не синологов) к западноевропейским транскрипциям китайских слов, часто весьма далеких от действительной фонетики слова, и, я бы сказал, пренебрежительное отношение к русской транскрипции, также, конечно, условной, но по меньшей мере ничем не уступающей латинской.
(Исторически титул «шаньюй» нигде не засвидетельствован у юечжи, а выступает как чисто хуннский титул. Правитель юечжи всегда именуется китайским словом «ван» — «царь». Совершенно невероятно, чтобы юечжи приняли титул правителей враждебных им хуннов. Больше того, титул юечжийских царей нам хорошо известен по индийским легендам кушанских монет, — ото то же слово «ябгу» (yavuga), которым в форме хи-хэу (по Хирту-Шаванну yap-hеou) китайцы именуют вождей юечжийских племенных, союзов предкушанского периода. Если бы юечжи заимствовали в I в. до н. э. хуннский титул, якобы «обозначающий властителя или царя и иерархически стоящий выше титула jabgu соответствующего царю-вассалу»48, было бы совершенно непонятно, почему «Великие Кушаны» вернулись к скромному титулу «царей-вассалов». Нельзя, конечно, при этом не учитывать и очень основательного соображения Кеннеди о скромном характере греческого титула, который мало бы вязался с претенциозным хуннским титулованием. Против отождествления *** с названием владения одного из пяти юечжийских ябгу предкушанского времени говорит тот факт, что род Шуанми (Sangbi) в списке пяти ябгу стоит рядом с родом Гуйшуан (Кушан), что совершенно исключает соединение этих имен и надписи. Принадлежность этих монет одному из представителей рода кушанов исключает возможность видеть в них результат чеканки какого-либо из остальных четырех юечжийских ябгу периода, предшествовавшего объединению их владений под властью кушанов. Данное выше толкование слова *** вряд ли возбуждает сомнение. В качестве дополнительного аргумента в пользу кушанского происхождения изображенного на монетах «Герая» царя можно указать оставшиеся, насколько нам известно, до сих пор не отмеченными признаки искусственной деформации черепа Герая, аналогичные отмеченным Уйфальви для изображений на монетах кушанов.
Можно спорить лишь о третьем варианте истолкования, предложенном А. Н. Зографом, — о его сопоставлении слова *** с иранскими личными именами на Sana, ближе всего с именем Санабар (нельзя, конечно, отсюда заключать о связи монет «Герая» с известными монетами Санабара). Возможное возражение, что этому противоречит очень скромное место (маленькие буквы между ногами коня), занимаемое этим словом, может быть отведено, если мы учтем, что на монетах Эвкратида — ближайшем прототипе анализируемых монет — личное имя царя занимает также нижнюю часть надписи, правда, не между ногами, а под ногами коней Диоскуров, место, которое на монетах «Герая» занято родовым именем. Мне представляется, что из всех предложенных пока вариантов истолкования этот является единственным правдоподобным.
Тогда, повидимому, в слове «Герая» нужно искать не личное имя, а что-то иное, вернее всего какую-то составную часть титулатуры.
Нам представляются вполне убедительными доводы о чеканке монет «Герая» или, если следовать только что рассмотренному толкованию, «Санаба», к северу от Гиндукуша. Однако находки этих монет на территории Узбекистана вплоть до Ташкента позволяют считать, по меньшей мере, спорным приурочение этой чеканки «северному Афганистану»49.
Отнюдь не менее вероятным искать место чеканки монет «Герая» и на территории наших среднеазиатских республик.
В этой связи заслуживают внимания отмеченные в свое время Тизенгаузеном и Томасом черты сходства между монетами «Герая» и [180] монетами хорезмийского, как теперь установлено, происхождения.
Несмотря на ряд черт отличий между основной массой раннехорезмийских монет, датируемых нами временем начиная с III в. н. э., и монетами «Герая» (на всех хорезмийских монетах, в отличие от монет «Герая», мы находим пышный головной убор и бородатое изображение царя на аверсе, наличие тамги; на всех, кроме одной, двуязычность надписи на реверсе, круговой план и отсутствие венчающей царя фигурки Ники; для всех хорезмийских монет характерен более низкий вес), налицо значительное типологическое сходство, которое в 1938 г. заставило нас считать именно монеты «Герая» ближайшим прототипом тогда известных нам хорезмийских монет.
Если мы вспомним, что хорезмийские монеты до VIII в. сохраняют, при глубоких изменениях в весе и фактуре, неизменно традиционный тип, что свидетельствует о большом консерватизме в этой области, вопрос о генетической связи хорезмийских монет и монет «кушана Герая» («Санаба»?) приобретает крупное значение для династийной истории Средней Азии.
Мы знаем из данных хроник династий Суй и Тан, что правившие в VI — VII вв. н. э. в Хорезме, Шаше и городах-государствах Согдианы династии были кушанского (юечжийского) происхождения. Это подтверждается и близостью тамги хорезмийских афригидов, с одной стороны, к тамге согдийских царей на монетах, опубликованных Смирновой в № 1 ВДИ за 1939 г., с другой, — что в свое время отмечалось Марковым, Друэном и другими исследователями, — к тамге Великих Кушанов. Однако в интересующую нас эпоху, последовавшую непосредственно за падением Греко-Бактрийского царства, все эти области входили в состав не расположенных в Бактрии — Тохаристане — владений юечжийских ябгу, а в состав государства Кангюй, племена которого, в первую очередь племенной союз сакараваков (см. ниже, экскуре I), участвовали также в завоевании Греко-Бактрийского царства. Обстоятельство вхождения этих областей в кушанское царство и утверждение в них власти кушанских династов остаются пока темными, и не исключено, что именно монеты «Герая» могут пролить на них некоторый свет.
Данные о местах находок монет «Герая — Санаба» слишком незначительны, чтобы решить вопрос о более точном определении места их чеканки. Однако, несомненно, их связи ведут в Хорезм50.
Эта гипотеза, к которой мы пришли в начале наших работ51, полностью подтвердилась находкой в 1940 .г. на Топрак-кале наиболее ранней, бесспорно хорезмийской, тетрадрахмы (вес 9,322) с изображением на аверсе бородатого царя в сложном головном уборе вправо. Сзади головы схематическая миниатюрная фигурка Ники, венчающей царя. На реверсе — всадник вправо, почти совершенно отождествленный с всадником монет Герая. Слева, в поле, как на всех афригидских монетах — тамга, несколько отличная от обычной афригидской и некоторыми особенностями (2 точки в средней части тамги), ассоциирующаяся с тамгой монет Дальверзинского клада, открытого Кастальским и пока неопубликованного (табл. 84, 2 — 3).
Надпись только греческими буква м и, по плану восходящая к легендам монет Эвкратида: верх: *** низ: ***
В том же 1940 г. Б. Н. Кастальский приобрел второй экземпляр такой же монеты, вывезенный из Хивы, с которым он любезно ознакомил нас. Надпись на его монете, почти тождественная нашей, отличается некоторыми деталями в расположении букв: верх: *** низ: ***
Ни из греческого, ни из местных языков надпись расшифровать ни нам, ни специалистам по античной эпиграфике, к которым мы обращались, не удалось. Однако, сопоставляя наши два варианта с легендами монет Эвкратида, мы замечаем значительные совпадения в расположении букв: монета Топрак-кала — верх: *** внизу: *** монета Кастальского — верх: *** внизу: *** монеты Эвкратида — верх: *** внизу: ***
Расхождение между обеими нашими монетами еще более подтверждает, что надпись сделана не знающим ни языка, ни графики подлинника имитатором, воспринимавшим не отдельные литеры, а общий рисунок надписи.
Видимо, греческое начертание представляло своего рода идеограмму, как арамейское *** на позднейших хорезмийских монетах, как мы увидим ниже.
Остальные особенности типа (ободок из ромбических бус и др.) также тесно увязывают эту монету и с монетами Герая и с остальной серией хорезмийских монет. [181]
Монеты из Топрак-калы и собрания Б. Н. Кастальского, несомненно, являются связующим звеном между хорезмийским чеканом III — VIII вв. н. э. и монетами «Герая», однако генетические отношения их нам представляются достаточно сложными. Наши монеты, восходя непосредственно к монетам Эвкратида, не могут происходить от монет Герая — в этом случае больше оснований было бы для имитации надписи последнего. Я склонен скорее предполагать в монетах Герая боковую ветвь хорезмийской чеканки и видеть в хорезмийских монетах с тамгой и в монетах Герая параллельные и близкие по времени чекана формы, восходящие к общему прототипу — неизвестной пока кангюйско-хорезмийской монете II — начала I в. до н. э. Возможно, впрочем, что монета из Топрак-калы сама является прототипом «монет Герая». Мы должны, таким образом, внести известный корректив в гипотезу, высказанную нами в рецензии на работу Зографа52. Я позволю себе сейчас сформулировать наши выводы, дополнительную аргументацию которых читатель найдет ниже53.
Хорезмийско-кангюйская чеканка начинается вскоре после падения Греко-Бактрийского царства или даже раньше, в период между 170 г. — временем потери Греко-Бактрийским царством Согдианы — и временем путешествия Чжан-цяня, данные которого говорят об известном упадке могущества Кангюя под влиянием хуннов и бактрийских юечжи.
Именно символом перехода к Кангюю — Хорезму прав на греко-бактрийские владения — действительного или теоретического — могло явиться принятие ими типа и легенды последнего могущественного властителя Греко-Бактрийской империи. Может быть это, как обычно для этого времени, было закреплено брачным союзом с эвкратидидами. Хорезмийские монеты этого периода, возможно, скрываются среди разнообразных варварских подражаний монетам Эвкратида. Однако тип монет пережил глубокое принципиальное изменение: место греческих Диоскуров занял хорезмийский всадник — символ божественного предка династии Сиявуша.
Монеты Герая, видимо, чеканенные в Согде или в Бактрии в период, предшествующий подъему Индо-Бактрийских кушанов, чеканены юечжийско-массагетским вождем по образцу монет Кангюя, гегемония которого над Согдо-Бактрийскими кушанами, вероятно, уже номинальная, если верить Чжан-цяню, отражена в скромном титуле правителя. Монеты чеканились в стране, где греческий язык еще бытовал, что вряд ли имело место в Хорезме, для чеканщиков которого греческая надпись была не более, как идеограммой. Подъем империи кушанов в конце I в. до н. э. явился предпосылкой для введения в кушанском государстве новой чеканки, символизирующей разрыв с кангюйской традицией и имперский суверенитет новой династии54.
Возвращаясь к основной группе наших монет, нельзя не отметить черт сходства между монетами с тамгой S нашей серии и монетами индийских эфталитов V — VI вв. В частности, на лицевой стороне монеты безбородого царя, слева, позади царя, мы имеем знак, близкий к тамге эфталитов, которая, в свою очередь, [182] несомненно, родственна и кушанской и тамге наших монет55.
Может быть, в этой связи не мешает вспомнить и старую гипотезу Лерха — Веселовского56 о роли Хорезма в формировании государства эфталитов в период, предшествующий распространению власти последних на всю Среднюю Азию и за ее пределы.
В свете этой гипотезы не совсем ошибочной может оказаться и гипотеза Друэна — Говорса — Кэпнингэма — Рэпсона о происхождении наших монет.
Кроме типичных монет группы А мы встречаемся среди собранной нами хорезмийской меди с четырьмя подгруппами, несомненно, родственных ей типологически и близких хронологически монет, однако, несущих ряд черт отличия. Это, во-первых,подгруппа А1, — миниатюрные , но массивные медные монеты, напоминающие по размерам, весу и фактуре медные монеты царя в орлиной короне, по имеющие одну сторону чистой, а на другой — тамгу, варьирующую в начертании, но, несомненно, родственную тамге ***.
Несомненно, к наиболее ранним образцам хорезмийской чеканки, хотя и более поздним, чем монеты Герая и царя, представленного на тетрадрахме из Топрак-кала, и, несомненно, предшествующим всем остальным, должны быть отнесены 2 найденные в1937 г. близ Беркут-кала и в 1940 г. в Топрак-кала монеты — единственные представители подгруппы А2, выделяющиеся из всей остальной серии.
Это миниатюрные медные монеты, несущие на аверсе изображение бородатого царя влево, с характерной для парфянских царей прической и диадемой, но с типично хорезмийским очельем в виде полумесяца, а на реверсе — тамгу сиявушидов-афригидов (рис. 108, верхняя слева). Типологическая связь с чеканкой аршакидов в высшей степени примечательна, несомненно свидетельствуя о каком-то кратковременном, но важном политическом сдвиге.
Влияние аршакидской чеканки, бесспорно довольно раннее — не позднее I в. н. э., во II веке простая диадема аршакидов, представленная на нашей монете; сменяется сложными головными уборами, некоторые из которых близки к раннеафригидским (короны Хосроя, Вологеза II, III и V). Против особенно ранней даты говорит тип тамги, видимо, более поздней, чем тамга тетрадрахмы из Топрак-калы.

Я думаю, что возможно, пока мы не имеем более значительного материала, предположить, что эти монеты относятся ко времени политических потрясений, испытанных Кангюйско-Хорезмской державой в I в. н. э., и видеть здесь документ попытки кангюйско-хорезмских правителей опереться на помощь Парфии в борьбе с поднимающимся домом Индо-Бактрийских кушанов и датировать ее временем, предшествующим вхождению Хорезма в империю Канишки.
Третья подгруппа *** — такого же размера медные монеты, одна из которых имеет чаще всего на лицевой стороне бородатое изображение царя вправо в трезубой короне, напоминающей одну из корон Шапура I, реже — фигуру всадника вправо,
очень близкую к изображениям на реверсе наших монет. На обратной стороне эти монеты имеют разнообразные тамги, иногда близкие к обычной хорезмийской тамге ***; иногда резко отличную от нее свастикообразную тамгу (крест с округло загнутыми концами).
Монета, тождественная последнему варианту монет нашей подгруппы ***, была в 1880 г. опубликована Тизенгаузеном57. [183]
Некоторые монеты «царя в трезубой короне» имеют вместо тамги круговую надпись знаками местного алфавита вокруг выпуклой точки в центре, как упомянутые выше медные монеты «царя в орлином шлеме». Одна из монет из Топрак-кала, несколько большая в диаметре и отличающаяся по технике выполнения, имеет на аверсе несколько схематизированную голову того же «царя в трезубой короне», а на реверсе — обычного «хорезмийского всадника».
Четвертая подгруппа медных монет — представлена монетами, найденными главным образом в Топрак-кала и, видимо, более поздними, чем предыдущие. Эти монеты несут на реверсе изображение царя в головном уборе, близком к убору поздних афригидов: род шапки с выступающим вверх и вперед передним концом. На аверсе — трехконечная тамга *** иногда окруженная несколькими знаками трудночитаемой хорезмийской надписи (рис. 108, справа 3 нижние монеты).
Разнообразие и обилие типов медных монет, в частности, наличие, помимо ряда вариантов тамги сиявушидов-афригидов, по меньшей мере двух самостоятельных тамг, является, так же как и монета парфянского типа, свидетельством о каких-то существенных фактах в политической истории Хорезма этого времени. Видимо, около II — III вв. н. э. мы имеем проявление тенденции политического обособления отдельных частей Хорезма, под гегемонией местных династий, тенденции, против которой, в частности, возможно, и была направлена тирания Африга в начале IV в.
Вторая группа наших монет — ВВ1b (афригидские) — представлена значительно богаче. Именно к ней относятся те признаки, которые заставили Маркова и Друэна отодвигать нашу серию в сасанидское время. «Тетрадрахмы» исчезают. Серебряные драхмы более плоски, чем «тетрадрахмы» группы А, медные монеты крупнее, шире и площе монет группы AA1а (табл. 84 и 85).
На лицевой стороне мы видим изображение безбородого царя вправо (на серебряных монетах видны усы), окруженное тем же венчиком типа монет Эвкратида и Герая. На реверсе — всадник вправо, трактованный более реалистично, чем на ранних монетах, на идущей торжественным шагом, реже — скачущей лошади. Слева — та же тамга. Кругом — легенда, состоящая целиком из хорезмийских знаков. Изображения царей различаются чертами лица и коронами.
Типов корон в основном четыре: 1) Округлая тапочка с полумесяцем впереди, напоминающая головные уборы эфталитских царей Индии и убор двух из царей группы А. 2) Такая же шапочка с полумесяцем спереди, сзади и сверху. Оба эти убора, несомненно, близки к уборам сасанидов Ездегерда I (399 — 420) и особенно Пероза (439-484), Кавада (488-531), Хоороя I (531 — 579), Ормизда (579 — 590) и Варахрана VI. 3) Убор в виде зубчатой короны с поднимающимися ступенями передним и задним краем, напоминающий, как отмечено, убор Варахрана V, но с тем же традиционным хорезмийским полумесяцем. 4) Убор в виде своеобразного тюрбана или шлема с поднятым вверх, слегка заостряющимся передним углом и с характерной орнаментацией верхнего края в виде ряда загибающихся вперед маленьких спиралей и также с полумесяцем на лбу. На серебряных монетах группы ВВ1 представлены только варианты этого убора.
Количество правителей, носивших эти короны, значительно больше, чем число типов корон.
Подразделение на подгруппы этой группы мы основываем из характера легенды: 1) легенда целиком на реверсе; 2) царский титул располагается на лицевой стороне справа, против лица царя; на реверсе — имя; 3) обратно: титул на реверсе, на лицевой же стороне — имя царя, написанное характерным курсивом.
В1 сохраняет то же отношение, но на реверсе над крупом коня появляется надпись миниатюрными арабскими буквами, в которой могут быть прочитаны имена: *** или *** и *** — Фадл (ал-Фадл) и Джа’фар.
Оба эти имени позволяют точно датировать монеты В1. Это имена арабских наместников Хорасана, правивших в конце VIII в. н. э.: ал-Фадл ибн Яхья из дома Бармекидов (787 — 795)58 и один из его предшественников — Джа’фар ибн Мухаммед (787 — 789)59. Между этими наместниками правил известный Гитриф ибн Ата (792 — 793)60, который, по Hepшахи, впервые вмешался в чеканку монет в Бухаре, где, по этому автору, были [184] выпущены так называемые диргемы «гитрифи» — монеты старого бухарского образца, но с именем наместника61.
Таким образом наиболее поздние монеты нашей серии относятся к концу VIII в. н. э. ко временам Харун-ар-Рашида. Как в группе AA1, мы находим и в этой хронологически более поздней группе несколько монет (одна из которых была, как отмечено, опубликована Томасом), отличающихся по типам реверса. Это крупные, плоские медные монеты трех правителей, в своеобразных пышных головных уборах, имеющие в центре реверса не всадника, а тамгообразные знаки, меняющиеся от правителя к правителю (табл. 87, внизу).
Чаще всего представлен знак ***, реже ***. На дефектной монете третьего царя видна лишь часть знака ***. Однако, так как титул, царя в легенде на реверсе тождествен титулу монет группы ВВ1 эти монеты, которые мы выделяем в группу b, несомненно связаны с Хорезмом. К определению их места в нашей серии мы вернемся ниже.
III
Выше, вслед за нашими предшественниками, мы отметили, что тамга сиявушидов-афригидов тесно связана с тамгами кушанов, эфталитов и Согда. Однако связи как основной тамги хорезмийских монет, так и отмеченные выше параллельные тамги на монетах Хорезма и тамги на хорезмийской керамике, особенно богато представленные в Кой-крылган-кала, имеют более широкий и вместе с тем четко очерченный круг аналогий. Из них наиболее близкими и исторически существенными являются параллели между хорезмийскими тамгами, в первую очередь основной тамгой сиявушидов-афригидов, и тамгами античного северного Причерноморья, в первую очередь тамгами Боспорской династии аспургианов I — III вв. н. э.
Царские знаки Тиберия Евпатора, Савромата II, Тоторса и других царей II — III вв. н. э., разнообразные знаки склепа 1872 г. в Керчи и других боспорских памятников чрезвычайно близки к хорезмийским.
Если кушанская тамга ближе всего к тамге сиявушидов своей «подставкой», резко отличаясь верхней частью, то тамга аспургианов — династии савроматского происхождения, пришедшей на Боспоре к власти около начала н. э., — тождественна с хорезмийской по всему своему плану отличаясь, и то не всегда, несколько большей угловатостью.
Характерно, что в асимметричных тамгах Тиберия Евпатора и др. налицо даже тот же тип асимметрии — сохранение правой ветви верхней части тамги при утрате левой.
Наряду с царскими знаками аспургианов, аналоги нашей тамги богато представлены на различных памятниках Керчи, Ольвии и других античных центров Северного Черноморья62, датированных тем же временем (I — III вв. н. э. Шкорпил, Ростовцев). Особенно близкую парал- [185]лель одному из вариантов сиявушидской тамги на монетах «царя в трезубой короне» мы находим на лошадиной морде, изображенной на известном камне из Кривого Рога63, в форме ***, здесь налицо просто тождество.
Юргевич считает эти знаки аланскими. Скорее к этому определению склоняется и Шкорпил64. Ростовцев считает их сарматскими65.
Делались многократные сопоставления этих знаков с тамгами более позднего времени — кабардинскими родовыми знаками, опубликованными Фелициным66 (Юргевич, Мещанинов), раннесредневековыми (хазарскими?) знаками с Маяцкого городища, опубликованными Макаренко67 (Мещанинов) и др. Сюда же бесспорно примыкают некоторые знаки с кирпичей Цимлянского городища68. Наконец, Б. А. Рыбаков очень убедительно попытался возвести к кругу боспорских тамг и царских знаков тамги Рюриковичей и некоторых более ранних памятников славяно-антской культуры (Киев, Мощинский клад)69.
Эти поздние проявления исследуемого круга тамг представляют, бесспорно, первоклассный интерес, свидетельствуя о живости сарматской этнической традиции и политической традиции древних государственных центров Северного Причерноморья в раннесредневековой хазарской и славянской среде, протягивая одну из тех нитей между древней историей нашей родины и Киевской Русью, изучение которых, бесспорно, заслуживает самого пристального внимания70.
На прилагаемых таблицах мы попытались наглядно дать очерченный выше круг параллелей к тамге сиявушидов и другим тамгам древнего Хорезма, круг, как мне кажется, совершенно этнически ясный: речь идет о сарматско-массагетской этнической среде и ее последующих исторических трансформациях.
Ниже нам придется не раз еще вернуться к установленному факту зависимости сармато-аланских, в частности боспорских, тамг династии аспургианов от тамги сиявушидов и общей тесной связи северочерноморских и хорезмийских родовых знаков, не могущей являться случайной и бесспорно отражающей реальную не только этнографическую, но и политическую связь.
Чтение семантики хорезмийских, боспорских и родственных им тамг сармато-массагетских династов первых веков нашей эры может быть дано с достаточной определенностью. Нам представляется, что исходной является ранняя форма хорезмийской тамги, представляющей собой сильно схематизированное изображение женской фигуры, имеющей тенденцию трансформироваться в изображение дерева, со слившимися с ней двумя протомами коней, повернутых головами в стороны.
Прекрасный образец этой композиции в виде миниатюрной бронзовой фигурки женщины, сидящей на соединенных протомах коней, найден в Армении (хранится в Бр. музее) и [186] опубликован Герцфельдом71 (рис. 111, 1). Я не склонен вслед за ним завышать возраст этой вещицы. Я думаю, что она датируется аршакидским временем и генетически восходит не к луристанским бронзам, во всяком случае — не непосредственно, а к неизвестным пока нам среднеазиатским прототипам, схематизацией которых является сиявушидская тамга.
Другими словами, наша тамга сюжетно и стилистически входит в круг блестяще исследованных В. А. Городцовым «сарматодакских элементов», наложивших такой мощный отпечаток на все дальнейшее развитие народного орнамента народов Восточной Европы и, добавим мы, Средней Азии72.
Среди сюжетов севернорусских и карельских73 вышивок мы, в частности, находим и искомую композицию, явившуюся прототипом тамги сиявушидов, — женскую фигуру с двумя протомами коней (рис.111, 2,3), композиционно тождественную с приводимой нами выше закавказской статуэткой.
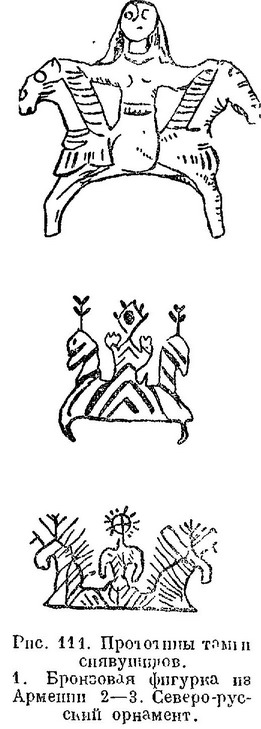
В. А. Городцовым убедительно показано, что композиция женщины с конями (resp. всадниками) является центральным религиозно-политическим символом сарматских и дакийских племен, наследством которых она является в русской культуре. А так как нам еще неоднократно придется убедиться, что не только сарматская, но и фрако-дакийская среда отнюдь не кончается на Танаисе и даже Волге, и Средняя Азия в эту эпоху представляет собой прямое этнографическое продолжение В. Европы, то неудивительно, что этот образ в одном из его вариантов лег в основу царского родового знака сиявушидов Кангхи-Хорезма. А если мы вспомним, что вторым символом сиявушидов является всадник с поднятой в знак адорации рукой — непременный элемент исследованных Городцовым композиций — и что тот же всадник с вариантом той же тамги сочетаются на монетах и сиявушидов и аспургианов, мы убедимся, что элемент случайности может быть здесь исключен. Боспорские знаки помогают нам прочесть ступени семантической эволюции исследуемой тамги, несмотря на свою схематизированность, сохранившую для среды, где они бытовали, всю полноту смысловой нагрузки. В нижней части тамги аспургианов читаются либо также протомы двух коней, либо она интерпретируется, как ясно видно на тамге Савромата II, как один повернутый влево конь. Голова правого коня трансформируется в хвост левого. Верхняя, асимметричная часть тамги, несомненно, воспринимается как птица.
Если мы вспомним ту тесную связь и взаимные переходы фигуры женщины и ее атрибутов — птиц — в русской народной орнаментике, сармато-дакийские связи которой вскрыты Городцовым, нам будет понятна органичность этой трансформации. Асимметричная тамга прежде всего результат обычной для эволюции родовых знаков всех народов графической модификации исходной формы в новом ответвлении рода.
Но так как тамга не просто условный знак, а знак, наполненный внутренним магико-мифологическим смыслом, графическое изменение влечет за собой семантическую переориентировку, в свою очередь влияющую на графику: место богини — центра композиции — занимает ее атрибут — птица, графически ассоциирующая с асимметричным рисунком тамги.
Итак, в хорезмийской тамге древних сиявушидов, представленной на тетрадрахме из Топрак-калы, мы видим наиболее древнюю, исходную форму, дериватом которой являются асимметричные тамги позднейших сиявушидов-афригидов, с одной стороны, и аспургианов — с другой. Тамга аспургианов не только входит в один круг родовых знаков с тамгой афригидов, они бесспорно принадлежат одному ответвлению древнего рода сиявушидов, ибо одинаково решена задача создания варианта исходного знака.
Иначе эта задача решена у кушанов, но, несомненно, это та же задача и отправляются они от той же исходной формы: сохраняется «подставка», т. е. соединенные протомы коней, верхняя же часть совершенно отрывается от первоначального образа, заменяющегося характерной кушанской гребенкой (дерево?).
Третье решение бесспорно той же задачи мы находим в Иране, где, в полном соответствии с хорошо прослеженной в русском орнаменте [187] закономерностью трансформации исследуемого сюжета, мы видим переход женской фигуры в фигуру ветвистого дерева. Протомы коней превращаются в корни и ветви с сидящими иногда на них схематическими птицами, но и здесь связь с исходной формой остается несомненной.
Подводя итоги, мы можем сделать пока предварительное заключение, к дополнительной аргументации которого нам еще придется вернуться ниже.
Хорезмийская тамга (сиявушидов-афригидов, равно как и дополнительные династийные и фамильные знаки Хорезма, входя в круг массагето-сармато-аланских родовых символов, позволяют, вместе с тем, говорить и о более интимных генеалогических связях между хорезмийскими сиявушидами, с одной стороны, и массагето-сако-сарматскими династиями Боспора, кушанской и эфталитской империи и аршакидского Ирана, причем устойчивость именно хорезмской политической символики и непрерывность хорезмской династической традиции, уводимой Бируни в темные века позднего бронзового века, дают право думать, что именно здесь нужно искать древний центр распространения как символов, так и отраженных ими династических связей. Возвращаясь к первой главе нашего исследования, мы, я думаю, можем здесь видеть новое доказательство в пользу уравнения Хорезм-Кангюй. Ниже мы, на другом материале, попытаемся проследить возможные исторические пути распространения исследуемых символов и политические связи, им соответствующие (см. гл. IV, III, экскурс I).
IV
Мы переходим к самой сложной части нашей работы — к анализу хорезмийских легенд наших монет. Первым шагом в этом исследовании было выделение группы знаков, повторяющейся на всех без исключения монетах группы ВВ1b.
Эта группа знаков выглядит на разных монетах так: ***.
Не различая, как это делает Томас, первого и четвертого знаков в легенде ВВ1b, мы читаем MR’ — MLK’ — сочетание двух арамейских идеограмм: MR’ со значением «господин», «властитель» (ср. в согдийском MR’Y)74 и MLК’ — «царь» — вместо хорезмийского «шах» (в целом «господин-царь», может быть «властвующий царь»).
А л е ф в таком чтении окажется близким к одному из начертаний алефа аршакидо-пехлевийских монет (***), восходящего в свою очередь к наиболее архаической форме финикийского и арамейского начертания ***.
Дешифровка титулов дала нам пять знаков древнехорезмийского алфавита (М, L, R, К’). Это дало возможность полнее выяснить генетические связи нашего шрифта и проследить его эволюцию.
Прежде всего мы смогли установить, что хорезмийский шрифт вплоть до VIII в. сохраняет крайне архаический облик, во многом более сближающий его с арамейскими шрифтами парфянского и даже ахеменидского времени, чем с сасанидским пехлеви и согдийским. При всей архаичности раннесогдийгкого, хорезмийский дает значительно больше черт сходства с исходными формами.
Затем анализ надписи на монетах разного времени позволил нам выявить три этапа развития хорезмийского письма. Первый представлен на монетах группы АА1а. Его знаки целиком укладываются в рамки вариаций арамейского шрифта как такового. Знаки пишутся раздельно, лигатуры почти отсутствуют. Второй представлен в надписях на реверсе всех монет группы ВВ1b. Знаки приобретают здесь ряд местных особенностей. В частности «М» получает замкнутую снизу форму. Распространяются лигатуры при общей тенденции писать буквы раздельно. Третий этап представлен в надписях на лицевой стороне монет VIII в. группы ВВ1b.
Это законченное связное курсивное письмо, знаки которого претерпели значительные изменения, во многом сблизившись со знаками согдийского (в том числе и позднесогдийского) алфавита. Наглядно видеть эти изменения можно из сопоставления начертания титула MLK’ на разных этапах истории хорезмийского письма.
Раннехорезмийское ***.
Среднехорезмийское ***.
Позднехорезмийское ***. [188]
Значительно большие трудности представило чтение меняющихся легенд, в которых естественно было видеть личные имена царей. Однако здесь мы имели благоприятные условия, благодаря наличию списка 22 древнехорезмийских царей ал-Бируни, охватывающего период с начала IV по X в. н. э.75.
Наиболее определенные результаты дала робота над чтением имен на монетах с курсивным начертанием имени царя на лицевой стороне. Здесь мы имели для одного из двух царей этой группы точную датировку, благодаря арабской надписи, что давало возможность довольно точно датировать и другого царя серединой VIII в. С другой стороны, облегчала дело и близость курсивных начертаний хорезмийских имен к согдийскому курсиву.
Курсивная надпись на упомянутых монетах царя середины VIII в. *** вероятнее всего может быть отнесена к царю Шаушафару *** единственному из списка домусульманских царей ал-Бируни, упоминаемому в иностранных — в данном случае китайских — источниках под именем Шао-ши-фынь; этот царь согласно Тан-шу в 751 г. прислал посольство с дарами к китайскому двору76.
В нашей надписи, как и в имени царя, повторяются первый и четвертый знаки, которые могут быть сближены с согдийским s. Конечное г не подлежит сомнению. Знак второй может рассматриваться как сокращенное курсивное начертание алефа. Знак третий близок к согдийскому ваву, знак пятый может быть сопоставлен с согдийским «».
В целом имя читается s’wspr — Шаушафар. Это чтение нам представляется не возбуждающим сомнений.
Надпись на реверсе вслед за царским титулом ***.
Третий знак должен читаться, как алеф, в первом — вероятнее всего видеть подвергшееся влиянию курсива начертание , второй и четвертый могут быть rk77. Наконец, в знаке шестом я склонен видеть лигатуру двух знаков, в первом из которых надо видеть zw, во втором rk. В целом слово читается как pr’rx zr n, видимо, два слова, дополняющие титул. Первое восходит к среднеиранскому «farrak»: «облеченный благодатью», «благословенный», весьма обычному в сасанидской титулатуре78. К анализу второго мы вернемся ниже (см. стр. 189).
Менее определенно чтение имени царя на монетах с именем арабских наместников ***.
На это время по списку ал-Бируни должно падать правление либо преемника Шаушафара, имя которого ал-Бируни передает в форме *** (Турксабаса или Туркасбаса)79, или его преемника, носившего мусульманское имя Абдаллах. [189]
Так как вторая часть имени является уже знакомой нам идеограммой MLK’, а знак пятый тождествен с седьмым — стоящий перед ним знак четвертый может быть архаическим начертанием w, которое мы еще встретим на наших монетах, а знак второй очень близок к общеарамейскому, в частности согдийскому, начертанию *** (согд. b), и я склонен видеть здесь именно имя Абдаллаха, рассматривая первый знак либо как айн, употреблявшийся в хорезмийском (как и в согдийском), конечно, лишь для передачи семитических слов; либо может быть сокращенное написание а л е ф а, сходное с сокращенным а л е ф о м в конце титула на монетах группы А.
Если предположить в третьем знаке d, родственное некоторым начертаниям аршакидского пехлеви и тождественное d согдийских текстов, то имя в целом будет читаться *** или *** — Абдалл(ах) — шах.
Монеты группы А читаются с большим трудом. Как я уже отмечал, мы имеем здесь четыре начертания (см. табл. 84, р. 5, 7, 9-11,13).
В первом ясны три последние буквы, дающие чтение m’r или m’k. Первая, если исходить из арамейских прототипов, может быть w, у или z, вторая — w, p, z или g. В целом имя может читаться wzm’r, yzmr’, wpmr’wgm’r или, наконец, zgm’r. Во всяком случаев списке ал-Бируни подобного имени нет. Условно мы будем именовать этого царя Вазамаром.
Во втором имени первый знак а л е ф, четвертый, вероятнее всего, r. Во втором знаке я вижу арамейское р, в третьем — w, в пятом — арамейское г и м е л ь (g), в целом ‘pwrg, где w, как в пехлеви и согдийском может служить для передачи редуцированного гласного. В таком случае это начертание будет передачей имени Африга *** — первого царя списка ал-Бируни.
Видимо, это же имя мы читаем в третьей (табл. 84, р. 13) надписи (изображение царя на аверсе этой монеты очень похоже на изображение «Африга») — с той разницей, что здесь налицо лигатура rg и, в связи с общим более округленным рисунком знаков, иное начертание, весьма своеобразное, приобрел начальный а л е ф.
В четвертом имени (табл. 84, р. 9 — 11) первый знак w, второй — r, четвертый — w, пятый — m. Если видеть в шестом знаке, как и в надписи на реверсе монеты Шаушафара, одно из начертаний х80 и в третьем знаке предположить хорезмийское t или *** (арам. Тау) 81 все имя будет читаться *** т. е. имя Арсамух, *** ал-Беруни82. Однако по типу монеты не могут принадлежать этому шаху, бывшему, по ал-Бируни, современником Мухаммеда, т. е. жившему в первой четверти VII в. Они, несомненно, восходят к значительно более раннему времени, и, может быть, принадлежат одному или двум шахам этого имени, либо правившим до Африга, либо почему-либо (нет ли ключа к этому в виде изменений тамги на этих монетах?) не попавшим в список Бируни.
Вероятнее, впрочем, что подтверждается и весовыми данными (см. ниже), Артамуха I (I и II?) мы должны относить ко времени более раннему, чем не только Африг, но и Вазамар. Напомню (см. выше гл. III, стр. 109), что многочисленные имитации кушанских монет, видимо, во II веке вытеснившие старую кангюйскую чеканку, несут часто надчеканку S, тождественную с тамгой в левом поле реверса монет Артамуха (Артамухов?). Тот же знак мы находим на кирпичах раскопанного нами дома близ Аяз-кала № 3, датированного монетами тем же временем. Возможно, что в чеканке Артамуха(-ов) мы имеем первую попытку после перерыва в несколько десятилетий вернуться к древнему кангюйскому типу еще в период гегемонии над Хорезмом Великих Кушанов, чем, мне представляется, можно объяснить отсутствие «подставки» под тамгой, видимо, имевшей какое-то отношение к идее политического суверенитета.
Довольно значительное количество надписей, весьма, впрочем, дефектных, дают нам и медные монеты группы АА1а. Оставляя требующую еще значительной работы публикацию этих надписей до подготавливаемого нами полного издания нашей нумизматической коллекции, отмечу лишь, что почти все надписи на [190] медных монетах состоят из уже знакомой нам идеограммы MLK’ и меняющейся части — личного имени. По легендам мы можем констатировать, что орлиный шлем носили два царя — уже знакомый нам «Вазамар» и царь с другим именем, начинающимся на r или k, кончающимся на t, что имя царя с тамгой *** оканчивалось на rh, что легенда монет царя в трезубой короне не содержит MLK’, а, повидимому, лишь личное имя, если не видеть титула во входящих в легенду знаках… MR…
Из палеографических особенностей отметим более раннее появление на меди лигатур, естественно, сильно затрудняющих чтение. Весьма сложно также чтение медных монет нашей коллекции, принадлежащих к группе В, как и серебряных монет этой группы, не имеющих курсивной надписи на аверсе. На одной из медных монет — с изображением царя в ступенчатой короне — можно пытаться видеть s’hr — имя царя, правившего в первой половине VIII в. н. э.: ***.
Другая медная монета, найденная в1937 г. в Беркут-кала и имеющая на аверсе голову царя в круглой шапке, украшенной тремя полумесяцами, на реверсе — обычного сиявушидо-афригидского всадника и обычную афригидскую тамгу — имеет надпись, расположенную в трех местах: на аверсе, против лица царя:
(MR)’ MLK(‘).
Над затылком царя — ***.
На реверсе ***.
Я читаю ее, исходя из вышеизложенного: ‘Skwcwr prrk.
Первое имя — тождественное с «Аскаджуваром» Бируни (около 700 г. н. э.). Второе — обычный эпитет сасанидской царской титулатуры (см. выше).
Большой интерес представляет отсутствующая на всех остальных монетах надпись позади головы царя. Надпись состоит из двух начертаний, первое из которых — лигатура, видимо, из трех букв. Первый знак — r или k. Последний z, w, p или g. Предпоследний вероятнее всего — n, хотя на этом месте лигатуры он может представлять любую букву «с хвостом» — например, k. Вторую букву, от которой осталась только толстая горизонтальная черта, определить совершенно невозможно.
Однако я позволю себе, совершенно гипотетически, предположить, что, поскольку титул-идеограмма дан перед лицом царя, а имя и эпитет на реверсе, в слове над головой видеть название государства и читать K’ng — Канг — древнее политическое имя Кангюйско-Хорезмской державы.
K’ng MR’MLK’ ‘Skwfcwr prrk. В целом легенда будет читаться: «Господин царь Канга Аскачувар Благословенный» — почти точная калька согдийского титула, известного нам по документам с горы Муг: *** 83 Если это чтение подтвердится — это будет новым серьезным аргументом в пользу нашего уравнения Кангюй — Хорезм.
Из двух «Аскуджуваров» списка ал-Бируни вероятнее относить нашу монету к первому, правившему, если исходить из расчетов Бируни, около середины V века. Второй «Аскаджувар» — дед Шаушафара, правивший во второй половине VII в., исключается, — ибо, как мы видели, этот период характеризуется совершенно иным типом монет.
Пять серебряных монет собрания Эрмитажа и ряд наших медных монет не несут на лицевой стороне имени царя. Они имеют на реверсе одну и ту же часть легенды, следующую за MR’ MLK’: ***
Несомненно, чтение четвертого знака — М и второго — R. В третьем, имеющем тенденцию связываться с последующим, а иногда и предыдущим знаком, вероятнее всего видеть арамейское z. Если, придерживаясь в данном случае чтения Рэпсона84, видеть в первом знаке заимствованную из сасанидского курсивного пехлеви лигатуру Н и W, все слово в целом будет читаться Hwrzm, т. е. Хорезм, и тогда надпись в целом будет читаться: MR’MLK’ Hwrzm — «господин шах Хорезма». [191]
Вызывает сомнение, с одной стороны, тот факт, что на монетах всех других типов нашей серии имя Хорезма отсутствует, с другой — курсивная позднепехлевийская лигатура мало вяжется с архаическим обликом хорезмииского монетного алфавита. Однако так как чтение rzm не подлежит, как нам представляется, сомнению, а датировка этих монет, тесно примыкающих по всем признакам к монетам Шаушафара и Абдуллы и, несомненно, чеканенных одним из непосредственных предшественников первого, вероятно, в VII — начале VIII в. (здесь мы присоединяемся к сделанной на основании других данных датировок Кэннингэма), позволяет считать хронологически возможным воздействие поздних форм пехлевийской письменности — я считаю это чтение наиболее вероятным.
Исчезновение имени царя и замена его именем страны, вероятно, имеет свое историческое объяснение. Может быть это монеты правившего в 712 г., в период завоевания Кутейбы Аскаджамука II, которого внутренние (гражданская война, описываемая Табари) и внешние политические обстоятельства (бурная эпоха арабского завоевания) заставляли особо подчеркивать свое право на единовластие в Хорезме.
Индивидуальная часть легенды одной монеты (из коллекции Эрмитажа) без имени на лицевой стороне, очень в остальном похожей на только что описанные, и если не чеканенной тем же царем, то очень близкой ко времени чеканки их хронологически, видна на рис. 20 таблица 84.
Легенда, как мы видим, крайне деформирована, буквы слились между собой в сложную лигатуру. Отчетливо выступает лишь последнее R (К?).
Ни в коей мере не претендуя на окончательное чтение, я считаю все же возможным пытаться раскрыть слившиеся в этой лигатуре знаки
***
и читать, как и на медной монете, приводимой нами выше, S’hr — Caxp (II) — имя царя, правившего в конце первой половины VII в.
Есть основания предполагать, что вообще в VII — VIII вв. установился обычай изображать царей на серебряных и на медных монетах в разных уборах. На последних уборы сильно варьируют, с преобладанием, однако, зубчатой короны Варахрана V — на первых устойчиво выступает тюрбанообразный убор. Видимо, сохранение однотипности изображений на серебряных монетах было важно в связи с ролью монет хорезмийской чеканки на среднеазиатском рынке для VII в., отмеченной Нершахи.
На монетах с трезубым знаком, где реконструированная при помощи сопоставления ряда дефектных монет индивидуальная часть легенды выглядит как ***, мы считаем возможным, сближая первую букву с арамейским85 h, вторую с n, в третьей видеть близкий к пехлевийскому k, в четвертой r и в пятой — конечное y86, читать xnkry или xnyry (см. табл. 85, р. 10, 12, 22). Это имя будет соответствовать имени *** Хангири или Хамгири — имени шаха, по списку ал-Бируни, правившего в первой половине VI в. Однако так как в таком случае необъяснимым остается отличие реверса от обычного для монет афригидов, я склонен видеть здесь имя враждебного хорезмшаху — современнику Кутейбы — «Царя Хамджерда» *** правившего где-то в западной части Хорезма, вероятно, в Нижнем Хорезме, и в 712 г. разбитого и казненного Кутейбой. 87
Заслуживает особого внимания отклонение от обычного хорезмийского шрифта на этих монетах, причем в направлении, позволяющем говорить о влиянии еврейского квадратного письма. Это невольно наводит на старую проблему о еврейских элементах в домусульманском Хорезме, неоднократно ставившуюся в литературе и основанную на среднеперсидской традиции об «основании» Хорезма сасанидом Нарсе, «сыном еврейки», и на крайне своеобразном наименовании хорезмийских ученых (времен арабского завоевания) у Табари — хабр (ахбар) — термин, применяющийся в арабской литературе только к еврейскому ученому88.
Если наше чтение правильно, то движение Хамджерда могло носить и религиозную окраску. А тогда позволительно сопоставить дату разгрома этого движения и начала исламизации Хорезма (712) с вероятной датой юдаизации Хазарии — по расчетам М. И. Артамонова — [192] между 731 г. и концом VIII века89. Мало вероятно принятие правящей династией воинственного полукочевого государства религии гонимых купеческих общин Причерноморья. Но религия таких же воинственных, как сами хазары, эмигрантов с востока, оттуда же, откуда позднейшая Хазария черпала свои лучшие воинские кадры, могла, бесспорно, стать господствующей религией формирующегося полуварварского тюрко-славянского государства. Может быть в этих событиях нужно искать объяснение слова xzкn (Хазаран?) в титуле Шаушафара (стр. 185).
Медные монеты со знаком *** в центре реверса, на первый взгляд этим признаком напоминая монеты «Хангири», однако должны быть не только включены в основную группу афригидских монет, ибо, как удалось установить на одной хорошей сохранности монете из Наринджана, они имеют слева, в поле, сиявушидскую тамгу. Больше того, сравнительный анализ изображения царя и непрочитанной пока надписи на реверсе убеждает в том, что эти монеты принадлежат хорезмшаху «Абдаллаху».
Мы сделали выше попытку чтения 10 имен, представленных на наших монетах. Пока непрочитанными остаются еще 5 или 6 имен на по большей части сильно дефектных медных монетах нашей коллекции.
Проделанная работа дает возможность с большей или меньшей долей вероятности подойти к чтению девятнадцати знаков хорезмийского алфавита, на разных этапах его развития: ‘, y, w, b (***), p, m, n,r,l, 9,s, S, h, x, k, q, y, g, с (с).
V
Наш анализ был бы неполным, если бы мы не привлекли к нему весовые данные. Эти данные полностью подтверждают выводы в отношении относительной хронологии, сделанные нами из анализа изображений и фактуры монет.
Наиболее полновесными (что, однако, связывается с низким процентом серебра в сплаве) являются тетрадрахмы группы А1. Монета с безбородым царем имеет вес 11,75 г, с бородатым — 11,60 г (причем край последней монеты обломан). Как мы знаем, тетрадрахмы Герая90 имеют вес 11,95 — 15,56 г, в среднем — 13,93 г.
Вес группы А значительно ниже. Монеты царя в орлином шлеме дают вес в 9,85, 8,00, 6,85 г; монеты «Африга» — 9,10 г и 5,96 г. Последняя представляет собою крайне обесцененную тетрадрахму (каковой она остается по диаметру), по весу уже приближающуюся к полновесной драхме.
Серебряные монеты группы BB1 дают не менее показательную картину. Монеты царей VII в. — полновесные драхмы, несколько превосходящие, в общем довольно устойчивый вес сасанидской драхмы, колебавшийся на всем протяжении четырехвековой истории сасанидов между 3,695 и 4,046 г91.
Монета с легендой (S’far) — 4,55 г.
Четыре монеты о чтением MR’MLK’Hwrzm дают 4,67; 4,38; 4,37 и 4,36 г.
Вес, таким образом, высок и весьма устойчив, отличаясь в этом отношении от тетрадрахмы III — V вв.
Монеты Шаушафара дают резкое снижение веса; их вес — 3,26; 3,20; 3,11 и 3,06 г — спускается ниже минимального веса сасанидских драхм.
Еще ниже падает вес монет «Абдаллаха».
Монеты «Абдаллаха» без арабской надписи имеют вес 2,44; 2,39; 1,97 г. Монеты с арабской подписью дают 2,05; 1,92; 1,44 и, наконец, 1,32 г, падая более чем втрое по сравнению с хорезмийскими драхмами VII в. — начала VIII в. и более чем вдвое по сравнению с драхмой Шаушафара.
Отражая общую закономерность, свойственную большинству нумизматических серий, наша коллекция отражает вместе с тем быстрый процесс политического упадка государства афригидов после арабского завоевания и особенно под властью аббасидских халифов.
VI
Работа над нашей нумизматической коллекцией позволила нам подойти к вопросу об определении не только не датированных монет, хранящихся в наших музеях, но и некоторых [193] памятников древней художественной промышленности. Определенные при помощи хорезмийских монет, они, в свою очередь, обогатили наш материал по древнехорезмийской письменности, позволили уточнить ряд определений древнехорезмийских буквенных знаков и, что самое главное, они явились первыми известными нам памятниками древнехорезмийского изобразительного искусства, открывая широкие перспективы изучения художественной культуры древнего Хорезма и, ввиду религиозной семантики ряда изображений, истории религии этой страны. В поисках памятников древнехорезмийской письменности мы обратились к просмотру непрочитанных надписей на серебряной посуде восточного происхождения, изданных Я. И. Смирновым92.
Среди сосудов с надписями мы обратили внимание на семь серебряных чаш, изданных в атласе Смирнова под № 42, 43, 44, 45, 46, 47 и 286 (табл. 87).
По ободку этих чаш идут, как правило, тщательно выгравированные надписи, о которых Я. И. Смирнов в вводной статье к атласу пишет: «Надписи на группе чашек (42 — 47, 286), кончающиеся, повидимому, обозначением веcа, не читаются, по словам академика К. Г. Залемана, так как писаны, по всей видимости, на каком-то неизвестном языке»93.
Вместе с рядом других произведений, изданных в цитируемом атласе, его автор относит эти чаши предположительно к «позднейшему периоду индо-скифского царства III — VII вв. по Р. X.», находя аналогии изображенным на некоторых из них божествам на индийских монетах династии Гупта94.
Сопоставление знаков надписей на этих чашах с надписями наших монет убедило нас в крайней близости тех и других. Все знаки монет оказались представленными на чашах и лишь несколько знаков на последних отсутствует на монетных легендах.
Сравнительный анализ изображения на чашах и на монетах еще ближе убедил нас в правильности сделанного сопоставления. Помимо того, что те и другие роднила общая струя индо-бактрийских культурных влияний, сочетающаяся с чертами локального своеобразия, изображения дали ряд деталей, позволявших сделать наше сближение особенно определенным.
На чаше 286 мы видим изображение сидящего на ковре царя, опирающегося левым локтем на круглую подушку. В правой руке он держит трезубый скипетр, тождественный с трезубым знаком на реверсе анализированной нами выше своеобразной группы наших монет. Этого мало. Рогатая корона на голове царя, с развевающимися позади полосатыми лентами тождественна с короной царя монет с указанным знаком. И, наконец, лица обоих изображений несут ряд черт, позволяющих говорить о портретном тождестве царя монет и царя чаши. Характерная, не повторяющаяся на других монетах форма крупного носа, прорез глаз, одутловатые щеки — все это в сочетании с тождеством убора и символа не оставляет сомнения в том, что на чаше № 286 и на наших монетах изображено одно и то же лицо.
На чашах № 42, 43, 44 изображено сидящее на троне (42), поверженном льве (43) и леопарде (44) четверорукое божество, держащее в трех из рук скипетр, символ луны и символ солнца. На голове божества — корона со ступенчатыми зубцами, украшенная на лбу лунным серпом с тремя звездами, тождественная с зубчатой короной ряда монет группы В. На чаше 45 — стоящее божество с козлиной головой, с развевающимися назад с затылка полосатыми лентами, тождественными с лентами короны царя чаши 286 и наших монет. Всадник вправо с плетью в опущенной правой руке, с колчаном на правом бедре, на коне, идущем торжественным шагом, с поднятой и подогнутой в бабке левой ногой (чаша 46), теснейшим образом примыкает к изображениям всадника на наших монетах.
А. И. Тереножкину удалось, отправляясь от другого материала, данных древнехорезмийской архитектуры, определить хорезмийское происхождение еще одного памятника художественной промышленности — серебряного блюда с замечательным изображением осады крепости95.
К мотивам, выдвинутым А. И. Тереножкиным в пользу его определения, мы должны прибавить ряд новых аргументов. Отметим крайнюю близость в трактовке изображенных на блюде, на чаше 46 и на наших монетах всадников (особенно характерен поворот лица всадника в 2/1 на чаше 46 и на блюде) и родство религиозной символики наших чаш и Аниковского блюда. [194]
В верхней части изображения на блюде мы видим изображение солнца и луны, обведенные полукругом, символизирующим небесную сферу. Мы уже отметили символы солнца и луны в руках четвероруких божеств наших чаш. Их трактовка на чашах и блюде не оставляет сомнения в общей, породившей эти произведения, культурной среде.
К этому нужно прибавить установленную нами при ознакомлении с чашами и блюдом в подлиннике тождественность венчика вокруг дна наших чаш и по краю блюда.
Таким образом группа серебряных изделий, хорезмийское происхождение которых мы определили, идя от палеографии и нумизматической иконографии, сомкнулась с произведением художественного ремесла, которое другой автор определил как хорезмийское, исходя из совершенно других данных — данных крепостной архитектуры.
Оставляя детальный анализ исследуемых памятников до подготовляемой нами специальной работы, отметим лишь, что наш анализ хорезмийских монет позволил сделать первые шаги дешифровки надписей на чашах.
Эти надписи построены по одному стандарту. Вначале идет слово, которое повторяется на всех чашах, и читается, исходя из установленного выше значения букв, как *** (?). За этим следует идеограмма MN — «от», «из». За ней идет индивидуальная часть надписи, повидимому, содержащая собственные имена. Мы видим здесь хорошо знакомую по сасанидской эпиграфике молитвенную формулу — обращение за помощью к богам, имена которых следуют за МN.
На чаше 43 я читаю первые два слова после MN *** 96.
Первое имеет в основе *** — «господин». Последняя группа знаков ***, видимо, имя богини Анахиты — Нахич в хорезмийском по ал-Бируни.
На чаше 47 можно прочесть вслед за MN — *** — слово, в состав которого входит имя Ормузда97.
Все надписи заканчиваются группой знаков, несомненно, являющихся числительными, которым предшествует общее всем надписям слово, первый и четвертый знаки которого может быть z, n, w или у, а второй похож на m (цена, вес, название какой-то меры?)98. Дешифровка этих надписей в целом потребует еще значительной работы, в которой должны быть максимально использованы данные хорезмийского языка, подготовляемые к изданию А. А. Фрейманом.
VII
Из исторических выводов, которые уже сейчас можно было бы сделать из нашей работы, мы считаем необходимым отметить следующее:
1. Изучение тамг монет хорезмийских правителей I — VIII вв. н. э. подтверждает правильность показаний ал-Бируни о непрерывной преемственности власти в Хорезме на протяжении этого периода и позднее, до конца X в. (как мы знаем не только из Бируни, но и из других арабских источников) в руках одной династии сиявушидов-афригидов, причем, за исключением двух, повидимому, коротких периодов, конец III в. — канун тирании Африга — и время около арабского завоевания, когда какие-то части Хорезма, вероятно, прежде всего Нижний Хорезм, отделялись и их правители начинали чеканить свою монету, — династия сиявушидов-афригидов, по всей видимости, управляла всей культурной зоной Хорезма. Это позволяет высказать предположение, что политический строй Хорезма был несколько отличен от строя Согдианы, и здесь мы имели вместо типичной для последней конфедерации городов-государств единое политическое целое, больше, может быть, напоминавшее по своей организации деспотии классического Востока.
Это подтверждается и имеющимися письменными данными, в частности, китайскими хрониками, всегда рассматривавшими Хорезм как единое государство.
2. Исследование тех же тамг и характера изображений на монетах заставляет признать имеющей основание китайскую традицию об общем происхождении правившей в Хорезме, Согде и Шаше династий и позволяет истолковать противоречивые данные китайцев о юечжийском и одновременно кангюйском происхождении этой династии. Тамга афригидов связана с тамгой кушанов, а изображения на монетах восходят к кангюйской нумизматике I в. до н. э. Больше того, сопоставление хорезмийских монет с монетами Герая является важным аргументом в пользу того, что центром [195] древнего кангюйского царства был именно Хорезм, где традиция кангюйской чеканки удерживается до конца VIII в. Это положение станет неоспоримым, если подтвердится наше чтение надписи на монете хорезмшаха Аскачувара. Тождество сиявушидско-афригидской тамги и тамги аспургианской династии на Боспоре позволяет предполагать, что и на Боспоре в I — III вв. н. э. правила отрасль кангюйского дома сиявушидов.
3. Нахождение хорезмийских монет, как хорезмийских чаш и блюда в Прикамье, позволяет считать установленной древность тех очень значительных экономических связей Хорезма с Восточной Европой, которые освещены для IX — X вв. арабскими источниками, делая весьма вероятными сведения китайских хроник о политической гегемонии Кангюя (=Хорезма) над племенами Прикамья.
4. Сохранение хорезмийскими монетами вплоть до VIII в. древнего типа изображений говорит о большой самостоятельности и стойкости хорезмийских культурных традиций, сумевших преодолеть мощное влияние культуры сасанидского Ирана, наложившей сильнейший отпечаток на культуру остальных среднеазиатских стран, что нашло свое отражение в господстве на их монетах сасанидских символов. «Хорезмийский всадник», древний символ кангюйской государственности, сумел отразить победоносное наступление «сасанидского жертвенника». [196]
II. ДРЕВНЕХОРЕЗМИИСКИЕ ТЕРРАКОТЫ
I
Среди материалов, собранных нами за время работ экспедиции, особо должны быть отмечены разнообразные произведения мелкой глиняной пластики — терракотовые статуэтки и гончарные рельефы. Этот наиболее массовый материал по хорезмийскому искусству, вместе с нумизматическим материалом, определенными нами произведениями хорезмийской торевтики, небольшой, но характерной коллекцией по глиптике и, наконец, богатейшие данные но архитектуре, в значительной мере охарактеризованные в предыдущей главе, позволяют нам уже сейчас подойти вплотную к характеристике основных этапов развития хорезмийского художественного стиля на протяжении исследуемого периода.
Однако значение этого материала не исчерпывается его искусствоведческой ценностью. Больше того, в нашем исследовании мы думаем обратить значительно большее внимание на другие связи нашего материала, истолковав его, насколько это возможно, в качестве источника для изучения историко-культурных связей древнего Хорезма, проблемы этногенеза хорезмийцев и, особенно, проблемы истории хорезмийской религии.
Основным объектом нашего рассмотрения в данном параграфе явятся терракотовые статуэтки людей и животных, в изобилии находимые на городищах.
По мере возможности и необходимости к этому основному материалу мы будем привлекать и данные других видов изобразительного искусства, которыми мы располагаем.
II
Изображающие людей древнехорезмийские терракотовые статуэтки, основная масса которых происходит с Джанбас-калы, городища, датируемого периодом между IV в. до н. э. — I в. н. э., могут быть разделены на три основные группы, объединяемые, однако, важным общим признаком: все они плоски и односторонне. Задняя сторона представляет собой гладкую поверхность, окрашенную в тот же цвет, что и лицевая сторона статуэтки. Техника — штамповка в формах, иногда с последующей подправкой.
К первой группе относятся статуэтки, которые мы объединяем в группу хорезмийского архаического стиля и которая но всем данным восходит своими корнями к ахеменидской эпохе, во многом перекликаясь со стилем монументальной скульптуры европейской Скифии. Это женские статуэтки в длинных одеждах, богато убранных по подолу и ложащихся условно трактованными складками вдоль тела. Шея убрана несколькими рядами бус. Изображение фронтально и плоско. Орнамент одежды передан также в плоском рельефе, техникой гравировки. Особое внимание уделено изображению, деталей орнаментировки одежды. Характерна трактовка рук, весьма далекая от реализма. Особенно типично изображение положенной на грудь под ожерелья левой руки, изгиб которой дан в виде одной плавной кривой, без всякой попытки передать локоть. Пальцы даны схематически (табл. 72, рис. 8).
Статуэтки этого типа, как правило, красной глины. Одна из них, пожалуй, наиболее архаическая по облику, покрыта черным ангобом.
Лучший образец скульптуры архаического типа найден нами в 1938 г. близ развалин ранне-афригидского замка № 32 в районе Беркут-калы. Это заставило нас первое время сомневаться в ее датировке, так как условия нахождения ее противоречили крайнему архаизму стиля. Однако уже в 1939 г. Мы [197] нашли такого рода статуэтки в самом нижнем горизонте Джанбас-калы и подъемном материале Базар калы, самого древнего из городищ кангюйско-кушанской эпохи, своими корнями уходящего в ахеменидское время, о чем говорят находки здесь, притом в значительном количестве, керамики, типичной для т. н. «городищ с жилыми стенами», датируемых нами V — IV вв. до н. э. Это не составляет сомнения в том, что статуэтки описанного типа восходят стилистически к ахеменидской эпохе Хорезма и в кангюйско-кушанский период выступают в качестве пережитка.
Вторая, значительно более многочисленная группа, представлена статуэтками мужчин и женщин, характеризующимися большим художественным реализмом и круглым рельефом лицевой стороны. Реалистически, возможно, портретно переданы лица. Реалистически даны головные уборы и одежда, причем в изображении последней на первый план выступает передача в объеме общей формы без того пристального внимания к орнаменту, который столь характерен для статуэток архаического стиля. Вместе с тем эти статуэтки попрежнему характеризуются подчеркнутой фронтальностью изображения, некоторой напряженностью позы (табл. 72, рис. 2).
Руки на женских статуэтках (табл. 75) вытянуты вдоль тела, на прекрасной мужской статуэтке с Джанбас-калы — правая вытянута вдоль тела, левая согнута в локте и положена на пояс.
Статуэтки покрыты красным ангобом.
Эта группа, характеризуясь большим художественным своеобразием, стилистически роднится все же с некоторыми иранскими статуэтками ахеменидской и, особенно, парфянской эпохи99, равно как и с частью статуэток афрасиабского круга, датируемых наиболее ранним временем100.
Значительный интерес представляет одежда, с большим реализмом переданная на наших статуэтках и позволяющая полностью охарактеризовать древнехорезмийский костюм кангюйской эпохи.
У мужчины — это короткая куртка, покрывающая лишь верхнюю часть бедер, туго стянутая в поясе, с треугольным разрезом ворота и, видимо, меховой опушкой по борту и подолу. Штаны свободные, но не очень широкие, лежащие характерными складками по бедрам и ниже колен забранные, видимо, в высокие сапоги (табл. 72, рис. 2). Головной убор — род фригийской шапки с лопастеобразными наушниками, иногда с тремя рогообразнымп, нависающими вперед выступами (табл. 73, рис. 1).
Женская одежда, широкая и свободная, состоит из длинной рубашки, ниспадающей до земли, поверх которой надето доходящее до колен стянутое поясом платье. На плечи надет драпирующий тело с боков длинный плащ. Головной убор — также род фригийской шапки с лопастевидными наушниками, с плоским верхом (табл. 73, рис. 2 — 4).
По своему типу хорезмийская одежда этого времени прежде всего тесно примыкает к одежде хорезмийцев, изображенных на ахеменидских рельефах101. Пожалуй, в кангюйских статуэтках нужно отметить лишь большую подтянутость мужского костюма и более короткую куртку, что, впрочем, можно отнести за счет стиля изображений (ср. разницу в изображении скифских курток в ахеменидском и греко-скифском искусстве). Вместе с хорезмийской одеждой ахеменидского времени одежда наших статуэток входит в широкий круг скифских форм одежды и очень близких к ним по стилю одежд малоазийских и фракийских племен, изображаемых как на тех же рельефах102, так и в скифском искусстве103 и греческой вазовой живописи104 и на хеттских скульптурах105. Это в одинаковой мере относится и к женским одеждам, также роднящимися со скифо-сарматскими формами, с одной стороны106, и малоазийскими — с другой107.
Особенно необходимо отметить весьма характерную параллель между отмеченным выше трехрогим головным убором хорезмийцев и совершенно аналогичным убором некоторых культовых статуэток воинов из пределов Боспорского царства108.
Параллели с малоазийскими фракийским кругом народов чрезвычайно существенны для разработки проблем этногенеза народов Средней Азии, а особенно с интересными заключениями, к которым в этом вопросе приходит проф. Б. Грозный, в связи с его дешифровкой иероглифов Мохенджодаро109. [198]
Вхождение хорезмийцев в комплекс массагетских племен110 при несомненной связи имени массагетов («великие геты»)111 с именем фракийских гетов, с одной стороны, и более отдаленной, но вероятной связи с именем малоазийских хеттов — с другой, позволяет видеть в статуэтках кангюйского времени важный первоисточник для исследования проблемы древних малоазийско-фракийско-среднеазиатских связей, имеющий первостепенное значение для вопросов этногенеза индоевропейцев.
Вместе с тем мужской костюм во многом напоминает одежду на ранне-кушанских монетах112.
Насколько можно судить по изображенной на монетах верхней части одежды, близок по покрою к хорезмийскому кафтан «Герая» на его тетрадрахмах113.
Из более поздних комплексов продолжение этой традиции мы находим прежде всего в одежде хорезмийцев афригидской эпохи на чаше № 46 атласа Смирнова114, на чаше № 286 в том же издании115 (здесь мы видим тот же трехрогий головной убор, что и на кангюйских головках), на монетах афригидов116. Трехрогий головной убор, повидимому, являющийся особым знаком отличия определенных высокопоставленных лиц, мы находим и на «Аниковском блюде», хорезмийское происхождение которого доказано Тереножкиным117.
Вместе с тем несомненна параллель между древнехорезмийским и афригидским костюмом, с одной стороны, и костюмом фресковых изображений буддийских культовых памятников второй половины I тыс. н. э. в Китайском Туркестане118, говорящая нам об устойчивой культурной общности, сохраняющейся на всей территории бывшего кушанского царства в послекушанский период, вплоть до эпохи ислама, и противостоящей влиянию культуры сасанидского Ирана, резко отличной от этой среднеазиатской цивилизации119.
Характерным отличием мужской одежды афригидской эпохи от одежды эпохи кангюйской является общее у афригидской культуры с культурой Восточного Туркестана появление отворотов у бортов куртки — одностороннего на восточно-туркестанских изображениях и двусторонних — на афригидских120.
Куртка и фригийская шапка, как характерная форма одежды хорезмийцев, сохраняется, как мы знаем, по меньшей мере вплоть до X в.121.
Гипотеза Ремюза — Клапрота — Франке, принятая и обоснованная новым аргументом нами122, отождествляющая массагетов и «больших юечжи» (архаическое чтение иероглифов последнего слова «гветти»), заставляет еще раз вспомнить цитированную работу Грозного. Замечательный параллелизм между «гветти» — юечжи с их правящим родом Куш (ан), с одной стороны, и «хатту» с их правящим слоем, отложившимся в имени древнейшей хеттской столицы Куш-(ар) — с другой123, являясь важным звеном для решения проблемы индоевропейского (и, добавим мы, урало-алтайского) этногенеза, вместе с тем позволяет искать очень глубоких исторических корней культурных связей между Хорезмом и Восточным Туркестаном, позволяющих рассматривать империю кушанов, как исторически сложившееся, имеющее длинную предисторию объединения культурно-родственных народов. А если мы вспомним, что восточнотуркестанский неолит, открытый А. Стейном, тождественен с нашей кельтеминарской культурой, — эта культурная предистория получит еще более глубокую перспективу. [199]
Перейдем к третьей группе наших статуэток. Она отличается прежде всего со стороны размеров и фактуры. Красного ангоба нет. Поверхность — желтоватая, в соответствии с желтоватым цветом самой глины. Среди статуэток встречаются очень крупные, достигавшие, видимо, около 25 см (судя по размерам фрагментов), наряду с очень мелкими (около 12 см).
Найденная в Джанбас-кале рука крупной скульптуры этого типа принадлежала, очевидно, изображению размером около ½ человеческого роста (табл. 76, рис. 8). Другими словами, в противоположность сравнительно однообразному размеру статуэток второй группы, стиль которых мы именуем кангюйским стилем, статуэтки третьей группы характеризуются весьма сильно варьирующими размерами.
Варьируют они и в отношении сюжета и формы. Сюда относятся:
1. Нагие женские статуэтки с характерным жестом Венеры Медичи, с руками, украшенными браслетами (табл. 74). Традиционная поза «нагой богини» — руки, поддерживающие груди, проходит через всю историю древневосточных цивилизаций, от архаических городищ Вавилонии до ахеменидского Ирана и даже Парфии124. Исключения из этого правила крайне редки. Луврская терракотовая статуэтка с Кипра, соединяющая египетский головной убор с жестом Афродиты Медицейской, несет на себе следы явного греческого влияния. Жест богини является, таким образом, важным датирующим признаком. Он, несомненно, восходит к греческим прототипам, будучи совершенно чуждым древневосточной художественной традиции. Между тем в самой греческой скульптуре этот образ Афродиты восходит лишь к концу IV в. до н. э. и на восточную почву мог проникнуть не ранее III столетия.
Однако в интересующем нас случае надо обратить внимание на украшенные запястьями руки. Эта деталь, чуждая греческому образцу, роднит наши статуэтки с традициями индийской скульптуры, что заставляет вести их в тот круг форм, в который они входят и технологически и характеристику и датировку которого мы даем ниже.
2. Мужские обнаженные стоящие статуэтки, с попыткой реалистической и вместе с тем условной, в духе античной скульптуры, передачи гениталиев. С античным искусством роднит эти статуэтки относительно очень малый размер половых органов (табл. 74, рис. 6).
3. Крупные статуэтки мужчин и женщин, изображенные в свободных позах, одетые в широкую, драпирующую свободными складками тело и перекинутую через плечи плащеобразную одежду. Характерна трактовка талии — тонкой, с типичным для древнеиндийского искусства перегибом тела в одну сторону. Грудь, в соответствии с формами того же искусства, широкая, выпуклая (табл. 75).
4. Статуэтки, изображающие сидящих, скрестив ноги или поджав одну ногу и поставив согнутую в колене вторую, очень близкие к аналогичным статуэткам гандхарского круга. Отметим совершенно тождественную трактовку живота и традиционно положенную на колено, украшенную браслетом руку125 (табл. 76, рис. 1 — 3).
5. К этой же группе относится фрагментированная, найденная на такыре Кой-крылган-калы статуэтка всадника или, вернее, судя по характеру одежды, всадницы, сидящей на каком-то животном, повернувшем голову влево, куда повернута и всадница, спустившая ноги на одну сторону. Эта статуэтка находит близкую аналогию в индобуддийской иконографии126(табл. 76, рис. 5 — 6).
Эта группа в целом может быть названа и «гандхароидной», или кушанской, и датирована, в соответствии с общепринятой датой гандхарской скульптуры127, временем не раньше I в. до н. э. Несомненная буддийская тематика большинства статуэток увязывается с нахождением в Джанбас-кале фрагмента миниатюрной глиняной буддийской ступы, характеризующегося той же обработкой поверхности. Индобуддийские связи этой группы подчеркиваются фактом нахождения в той же крепости двух сидящих статуэток обезьян, — сюжет, широко распространенный в гандхарском искусстве Индии, Афганистана и Восточного Туркестана. Исторически появление этой струи в хорезмийском искусстве может быть датировано временем вхождения Хорезма в состав великой среднеазиатско-индийской империи кушанов, событие, происшедшее не ранее конца I в. до н. э., к которому китайские хроники относят подчинение Кадфизом I других среднеазиатских и индийских владений128.
Э. Герцфельд в своей периодизации истории художественных стилей Ирана видит в переходе от традиционных «древневосточных» поз изображений к разнообразию и свободе в выборе [200] положений изображаемого один из важных признаков процесса воздействия греческой традиции на местное искусство129.
Несомненно, в нашем материале мы видим проявление того же процесса, однако дошедшего до Хорезма в преломлении через индобуддийскую культурную среду. В противоположность Согду, где по материалам Г. В. Григорьева, как, впрочем, и по данным старых сборов, мы можем говорить о сильном и непосредственном влиянии греческого искусства, в Хорезме проникновение эллинистических мотивов в искусство неотделимо от проникновения буддийских образов и в силу этого должно датироваться сравнительно поздним временем.
Необходимо остановиться на вопросе функций хорезмийских статуэток — вопросе, в сущности говоря, общем для Средней Азии, для всех археологически исследованных районов которой, включая и древние города Восточного Туркестана, одинаково свойственно нахождение многочисленных статуэток тех же категорий, что и хорезмийские, хотя и весьма отличных по своему художественному стилю.
Как известно, еще Нершахи130 отмечает наличие в быту населения домусульманской Бухары идолов (but), которые раз в год, на специальном базаре в присутствии царя продавались изготовлявшими их ремесленниками и ставились жителями города и окрестностей на воротах своих укрепленных замков — усадеб (kosk).
В. В. Бартольд считает спорной имевшуюся в литературе тенденцию известия Нершахи и других авторов «об идолах» связывать исключительно с буддийскими элементами в религии домусульманской Средней Азии131. Действительно, если часть хорезмийских статуэток, как мы видим, но всем данным отвечает такой интерпретации, то налицо многочисленная группа, несомненно, добуддийских мужских и женских статуэток, требующих своего объяснения.
Г. В. Григорьев в добытых им во время раскопок в Тали-Барзу статуэтках добуддийского облика132 хочет видеть в женских изображениях богини Анахиты, в некоторых, принимаемых им за мужские, — изображения «ахеменидских царей»133.
Оставим на совести Г. В. Григорьева и титул и пол «ахеменидского царя», искать изображение которого на согдийских статуэтках поселения в Тали-Барзу, даже если верить дате Григорьева — значит весьма и весьма переоценивать верноподданнические чувства согдийцев, столь мало проявлявшиеся в дни Александра. Думаю, вместе с тем, что его гипотеза в отношении Анахиты является плодотворной. Восходящая еще к анаусской эпохе традиция культа женского божества плодородия Ардвисуры-Анахиты находит яркое отражение в Авесте, особенно в Ардвисур-Яшт.
Культ Окса-Вахша, долго сохранявшийся в средневековом Хорезме, огромная роль Аму-Дарьи в хозяйственной жизни страны, позволяет предполагать, что Хорезм, как и Бактры на верхнем Оксе, а может быть, и в еще большей степени, являлся важнейшим центром культа этой богини вод вообще и богини вод Аму-Дарьи в особенности.
Если прав Захау в своей идентификации авестийской Урвы с Ургенчем134, а против его гипотезы возразить трудно, то не случайным окажется то место, которое Урва занимает в посвященном Ардвисуре Анахите Яшт V135. Мы не говорим уже о гипотезе Маркварта, искавшего легендарную Айрьянем Вэджо в Хорезме136 и разделявшемся многими исследователями предположение, что море Вурукаша Авесты — Аральское море137. Если принять эти гипотезы, конечно, требующие еще очень много работы для того, чтобы стать научно доказанным фактом, почти все важнейшие места гимна Ардвисуре окажутся связанными с территорией Хорезма138.
Анализ изображения четверорукого божества на чаше 42, 43, 44 атласа Смирнова и на двух оттисках больших печатей из Тешик-калы приводит нас к выводу, что здесь мы имеем образ хорезмийской Анахиты афригидской эпохи, прошедшей через этап синкретизации с индо-буддийскими образами в кушанскую эпоху139. Могучая богиня, увенчанная царской короной, держащая в руках скипетр и символы солнца [201] и луны, попирающая поверженного льва или леопарда140 — этот образ, богато отраженный в афригидской торевтике и глиптике, являясь, повидимому, самым популярным их образом, говорит об исключительно крупном месте, занимаемом Анахитой в хорезмийском пантеоне. Естественно поэтому искать ее образ и в более раннем хорезмийском искусстве. Сюда, несомненно, надо отнести нашу всадницу кангюйско-кушанского типа, ассоциирующуюся, помимо индийских образов, с Анахитой бактрийского серебряного блюда, недавно исследованного К. В. Тревер141, и женскими фигурами на грифоне и гиппокампе, изображенными на серебряных блюдах и чаше, типологически очень близких к хорезмийским и по всей видимости из Хорезма и происходящим142.
Несомненно, сюда должны быть отнесены нагие женские статуэтки из Джанбас-калы, несущие черты, характерные для изображения богини плодородия, как древневосточного, так и античного мира. «Нагая Анахита» — образ, прошедший через греко-индийскую среду и на некоторое время вытеснивший местный образ богини, возможно, сосуществуя с ним. Этот древний, местный образ, я думаю, вероятнее всего видеть в строгих и торжественных фигурах в богатых одеждах, которые дают нам кангюйские и архаические хорезмийские женские статуэтки.
Мужские фигурки интерпретируются сложнее. В отношении во всяком случае некоторых из них можно предположить, что здесь мы имеем образ божественного царя, обычного в близко родственном Хорезму скифо-сарматском мире спутника великой богини. Я имею в виду ассоциирующиеся с некоторыми боспорскими статуэтками мужские головки в трехрогой фригийской шапке. Трехрогий головной убор вообще играет существенную роль в хорезмийской иконографии. Мы его встречаем на голове предводителя всадников на Аниковском блюде. Очевидно, его разновидность мы видим на голове царя чаши № 286 атласа Смирнова и на изображении того же царяна хорезмийских монетах. Строго говоря, мы здесь имеем не трехрогость, а просто рогатость, ибо средний рог — это просто обычное завершение фригийской шапки или шлема. Рогатый шлем или шапка являются таким образом характерной особенностью какой-то категории высокопоставленных лиц Хорезма. Я напоминаю в этой связи известное место из Магабхараты, посвященное описанию тохаров и канков: «У дверей его (царя Пандавы) среди других народов ожидали саки, тохары, каяки, косматые люди со лбами, украшенными рогами». Помимо того, что рогатый головной убор хорезмийских царей является лишним аргументом в пользу нашего отождествления Кангха-Хорезм и первоначальной локализации тохаров по соседству с Хорезмом (и саками) — на нижней Сыр-Дарье, его анализ позволяет нам раскрыть и некоторые более глубокие историко-культурные связи. Прежде чем перейти к ним, я должен обратить внимание еще на одну деталь головных уборов хорезмийских царей — на неизменно украшающий их очелье (вне зависимости этих формы) полумесяц. Я склонен предполагать, что в этом полумесяце мы должны также видеть рудимент украшавших первоначально очелье рогов, типологически близких к рогам, украшающим боевой головной убор воинов нага в Ассаме или рогов русских женских головных уборов (кичек).
Если это так, то рога будут не единичным, а массовым явлением царских головных уборов хорасмиев.
Помимо уже указанных территориально удаленных аналогий я должен указать еще на рогатые головные уборы кафирских женщин, описанных Робертсоном. Это звено делает цепь менее разорванной: нага северо-восточной Индии, кафиры северо-западной, хорезмийцы в Средней Азии, русские и восточные финны в Восточной Европе образуют ее довольно близко лежащие друг к другу звенья.
Если мы вспомним, что в Авесте (Яшт XIX, 43) среди врагов героя Крсаспы выступает «Снавидка из рогатого племени», то хронологическая перспектива нашего анализа может быть еще углублена.
Мне не представляется невероятным, что в традиционном рогатом уборе хорезмийских царей мы видим один из осколков древних индо-хорезмо-восточноевропейских связей, прослеживаемых нами со времен неолита.
Трехрогий головной убор, очень похожий на наши трехрогие шапки, мы находим на голове знаменитого Галичского идола, что может служить важным датирующим моментом для проникновения этого сюжета в В. Европу. Напомню одновременно замечательное изображение рогатого четверорукого бога из Мохенджодаро. Возможно, что в наших мужских статуэтках [202] отражено божество Вахша, почитавшегося в Хорезме еще в мусульманское время143 и, может быть, тождественного с божественным культурным героем Хорезма Сиявушем, имя которого в даваемой Бундахишн (и сохранившейся местами в Шах-намэ)144 форме Сиявахш ***ассоциируется (хотя, возможно, под влиянием «народной этимологии») с именем Аму-Дарьи и ее божества, а популярность его в качестве составного элемента теофорных имен домусульманских хорезмшахов у Бируни свидетельствует о крупном его месте в хорезмийской религии еще в мусульманское время.
Этот же образ, вероятно, отражен в изображении всадника на чаше № 46 атласа Смирнова. За плечами этого всадника выступает изображение луны — характерный символ богов-воинов в иконографии целого ряда народов ближнего, среднего и дальнего Востока145.
Интерпретацию этого изображения на хорезмийской чаше как «бога-всадника, спутника великой богини» дал задолго до нашего определения хорезмийского происхождения этой чаши Ростовцев. В связи с проблемой отражения культа бога-всадника в хорезмийском искусстве стоит привести один из лучших памятников древнехорезмийской керамики, к сожалению, сильно дефектный. Я имею в виду фрагмент покрытого красным ангобом сосуда с рельефным изображением всадника на скачущем коне, наносящего удар копьем какому-то животному, следы изображения которого видны в правом верхнем углу черепка. Судя по очертаниям тела этого животного, это, вероятнее всего, кабан (табл. 82, рис.1).
Всадник, поражающий копьем кабана, сюжет, достаточно характерный для фракийского культового искусства146, снова вводит нас в круг хорезмийско-фракийско- малоазиатских связей. Да и сам образ бога-всадника проникает в греческое искусство, по Фуртвенглеру и Ростовцеву, из малоазийско-фракийской среды147.
Образ бога-всадника характерен для хорезмийского искусства по меньшей мере в той же степени, как для фракийского148, в качестве безраздельно господствующего образа хорезмийской нумизматической типологии на протяжении почти тысячелетия, являясь символом самого хорезмийского государства.
Среди памятников афригидской глиптики упомяну изящное изображение всадника в короне афригидов, сидящего на быстро скачущем коне и стреляющего из лука в бегущего по периферии круга печати козла или джейрана, найденное в 1938 г. в Тешик-кале (табл. 56).
Среди терракотовых статуэток налицо одна, несомненно представляющая отломленную от седла фигурку всадника.
Наконец, среди ранне-хорезмийских, датируемых кангюйским временем, резных печатей, собранных в окрестностях Беркут-калы, одна несет изображение бородатого всадника-копьеносца, на идущем вправо торжественным шагом коне (табл. 83, рис. 1). Борода хорезмийского всадника вводит его в круг образов, связанных с иконографией одного из популярных божеств оргиастических культов восточного Средиземноморья — Сабазия, аттрибуция которому некоторых северно-черноморских изображений конных охотников принадлежит тому же Ростовцеву149.
Не безынтересно будет, я думаю, в свете наших данных снова вернуться к старому вопросу о самом имени Сабазия (***, фриг. ***)150. Если правильно наше отождествление лунного бога-всадника хорезмийцев с Сиявушем (Сиявахш Бундахишна, Syavarsan Авесты), то близость этих имен, особенно если мы учтем диффузность исходного консонанта основы имени фракийско-малоазийского бога в греческом написании (***), не может не броситься в глаза. Правда, в иконографии Сабазия это божество всегда имеет бороду, в то время как всадник на чаше 46 безбород. Однако это могло отразить тот же процесс, который мы можем проследить на хорезмийских монетах, на которых в период V — VI вв. бородатые цари сменяются безбородыми. Во всяком случае всадник-копьеносец на приведенной выше хорезмийской печати подчеркнуто бородат.
А так как имя Сиявуша-Сиявахша прозрачно ассоциируется с именем великой среднеазиатской реки Вахша~Окса, позволительно будет поставить вопрос о древнейшем очаге культа Сабазия-Сиявуша, который по отмеченной выше взаимосвязи приоксийских «великих гетов», придунайско-фракийских гетов и малоазийских хеттов может быть разрешен, мне думается, [203] в более широком плане, чем он решался до сих пор151.
Оставляя пока в качестве скорее постановки проблемы хетто-хорезмийскую линию, я думаю, что данный нами выше материал позволяет уже с большой определенностью утверждать о наличии фракийского пласта в этническом составе древней Средней Азии, выступающего, прежде всего, в массагетско-хорезмийском комплексе племен.
Ономастические параллели: масса+геты Приаралья и геты С.-З. Черноморья, дахи-даи Закаспия и даки(давы) Дакии, Балханские горы в Закаспиии Балканские горы, Томирис — царица массагетов и Тамирас — фракийский божественный певец, Спаргапис — имя сына Томирис и это же имя у приднестровских «скифов», Сиявуш и Сабазий дополняются в области духовной культуры культом бога-всадника, коня, богини-матери, в области социального строя — параллелями в общественной организации фракийских агатирсов Трансильвании и массагетов и исседонов Ср. Азии. Если мы вспомним многократно отмечавшийся сильный фракийский пласт в этнографии Боспора Киммерийского и также разделяемое большинством исследователей предположение о фракийских связях киммерийцев, то в свете установленных выше боспорско-хорезмийских связей наше утверждение о фракийском пласте в Средней Азии получает дополнительный историко-географический аргумент.
В эпосе Сиявуш выступает перед нами неизменно в образе юного прекрасного всадника в золотом шлеме, на черном коне152. Сюжет Сиявуша, как он рисуется в Шах-намэ, несомненно несет в себе все признаки сюжета умирающего и воскресающего бога.
Сиявуш — сын царя Кей-Кауса (Кава-Уса), рожденный от таинственной прекрасной девушки, найденной дружинниками царя в лесу на границе Турана и умершей при родах153.
Юный Сиявуш, поражающий всех своей неземной красотой154, воспитанный великим воином Рустемом в Забулистане155, становится, по возвращении на родину, жертвой преследований его мачех» — Судабэ, домогающейся его любви (сюжет Ипполита)156. Отвергнутая пасынком, она дважды клевещет на него, обвиняя его в своем преступлении157.
Сиявуш, чтобы очиститься от обвинения, проходит испытание огнем — на своем черном коне он должен промчаться через гигантское пламя158.
После этого он становится во главе армии и ведет победоносную войну с Тураном159. По заключении мира опасаясь от продолжающихся преследований отца, прибывает в страну царя Турана Афрасиаба, женится па его дочери, строит легендарный замок Кангдиз : *** или Канг-и-Сиявахш160 и другую крепость — Сиявушгирд *** 161.
Оклеветанный перед тестем, он гибнет жертвой предательства. Но маленький сын его, Кей-Хосров, спасается бегством и, возмужав, возвращается, чтобы отомстить за отца. «Месть за Сиявуша» наполняет содержание значительной части эпоса Фирдауси162.
Ритуал Сабазия-Сиявуша, представляющий собой несомненный вариант ритуала культа умирающего и воскресающего бога, хорошо описан для Бухары X в. Нершахи. [204]
Этот автор рассказывает нам, ссылаясь на Абуль-Хасана ан-Нишабури: «Сиявуш, сын Кайкауса, бежал от своего отца, переправился через реку Джайхун и явился к Афрасиабу. Афрасиаб очень хорошо принял Сиявуша, выдал за него свою дочь и даже, говорят, отдал ему все свои владения. Сиявуш, получив таким образом во временное владение область Бухары, пожелал, чтобы здесь осталось какое-нибудь воспоминание о его владычестве; поэтому он выстроил эту крепость и там преимущественно жил. Завистникам удалось поссорить Сиявуша с Афрасиабом, и Афрасиаб убил Сиявуша. В той же крепости, около входа через восточные ворота, внутри ворот продавцов соломы, он был похоронен. Бухарские маги по этой причине относятся с большим уважением к этому месту; ежегодно в день нового года, еще до восхода солнца, каждый мужчина, по обычаю, закалывает здесь в память Сиявуша одного петуха. У жителей Бухары есть песни об убиении Сиявуша, известные во всех областях; музыканты сочинили к ним мотив и поют их; декламаторы называют эти песни «плачем магов». Со времени этих событий прошло более 3000 лет»163.
Видимо, с ритуалом Сиявуша связан интереснейший обряд, описанный Вэй-цзе для Самарканда: «Первый день шестого месяца считается у них началом года; когда наступает этот день, царь и народ одевают новые одежды и подстригают волосы и бороды; на опушке одного леса, на восток от города, стреляют из луков с коня в течение семи дней; когда наступает последний день, в качестве цели выставляют золотую монету на листке бумаги; кто попадет, тот получает право быть царем в течение одного дня. Они имеют обычай поклоняться небесному богу и в высшей степени его почитают. Они говорят, что божественное дитя умерло в седьмом месяце и что кости его потеряны, люди исправляющие культ бога, каждый раз, когда приходит этот месяц, одеваются в черные одежды со складками; они идут босиком, ударяя себя в грудь и плача… мужчины и женщины числом от 300 до 500 расходятся по полям, чтобы искать тело божественного ребенка. На седьмой день обряд приходит к концу»164.
Оба описанные здесь обряда представляют для нас одинаковый интерес. Если второй вводит нас в самое существо культа Сиявуша, как умирающего и воскресающего бога растительности, среднеазиатского двойника Озириса, Аттиса, Адониса, то первый указывает на наличие здесь несомненно связанного с тем же комплексом института временных царей, исследованного Фрэзером165.
Сиявушидское происхождение самаркандской династии (как и бухарской, хорезмской и других династий древнего Кангюя)166 делает этот обряд особенно интересным, позволяя предполагать, что и здесь, как в целом ряде районов древнего Востока и Запада, имел место обычай назначения временных царей-богов, долженствующих умереть в день смерти бога, заменяя некогда приносившего себя в этот день в жертву действительного царя — воплощения бога на земле.
Ритуальное состязание в стрельбе из лука, как способ избрания такого временного царя, [205] вводит нас в самые архаические и характерные обычаи, связанные с институтом царей-жрецов, resp. царей-богов, послужившие исходным пунктом для знаменитого исследования Фрэзера (Немейский жрец).
Описанный Нершахи167 и отмеченный нами выше ежегодный бухарский базар идолов, происходивший в присутствии царя, неотделим от комплекса культа Сиявуша. Я напомню в этой связи разобранный Фрэзером для культа Адониса обряд168 ежегодного уничтожения в день смерти бога его статуэток и замены их новыми, в день его воскресения.
Мы видим таким образом, что культ Сиявуша — божественного предка династии, умирающего и воскресающего бога растительности, имел исключительное значение в религиозном ритуале всех остальных центров древнего Кангюйского царства.
Образ бога-всадника на хорезмийских монетах и образ мужчины в трехрогой фригийской шапке в терракотах могут, нам кажется, быть истолкованы только как образы этого божества — мужского спутника хорезмийской Анахиты.
Видимо, с комплексом Сиявуша связан и сюжет Аниковского блюда. Внимательное его изучение показывает, что сцена, на нем изображенная, — не сцена осады крепости: крепость, судя по всему, уже взята.
Мы видим здесь, как установил А. И. Тереножкин, торжественный вынос из замка оссуария — астадана.
Я думаю, что в свете изложенного есть все основания предполагать, что замок, изображенный на блюде, — это легендарный Кангдиз, Канг-и-Сиявахш, а оссуарий, выносимый из замка, — это гроб Сиявуша.
Расположенный в правом верхнем углу сцены предводитель — Кей-Хосров (Кава Хусрава), сын Сиявуша.
Два трупа, повисшие на зубцах башни, — это убийцы Сиявуша. Женщина, простирающая руки из окна над воротами замка, — это жена Сиявуша, мать Кей-Хосрова, встречающая сына-мстителя.
А в целом сцена посвящена теме «мести за Сиявуша» — центральной теме древнего среднеазиатско-иранского героического эпоса. Мы видим здесь победоносное возвращение Кей-Хосрова в Кангдиз, его месть убийцам отца и вынос тела божественного основателя хорезмийской династии навстречу вернувшемуся сыну169.
Я думаю, что с тем же комплексом связано изображение козлоголового божества на чаше № 47. Не надо забывать, что Сабазий-Сиявуш божество дионисийского круга, а козел является вряд ли не важнейшим атрибутом Диониса. Козлоголовый хорезмийский бог — или сам Сиявуш-Сабазий, или одно из его воплощений — спутников170.
Подводя итоги, надо констатировать, что, повидимому, хорезмийские статуэтки являются изображениями двух наиболее почитаемых божеств древне-хорезмийского пантеона, вероятно (судя по обилию находок и по нахождению таких статуэток внутри жилых комнат), имевшимися у каждой семьи как «идолы» домусульманской Бухары в тексте Нершахи. Не исключено и использование этих статуэток в заупокойном культе. На эту мысль наводит анализ более обильного афрасиабского материала, где разнообразие лиц и одежд статуэток говорит о стремлении к их портретной индивидуализации, что вероятнее всего объяснить предположением, что мы видим здесь изображения умерших — нечто вроде египетских ушебти (в их первоначальном значении) — кстати и типологически довольно близких к среднеазиатским статуэткам. На наличие развитого культа умерших родственников в Хорезме указывает ал-Бируни171. Это, однако, отнюдь не противоречит нашей гипотезе, ибо оба исследуемые выше божества, входя в круг хтонических божеств Восточного Средиземноморья, постоянно выступают там в ритуале заупокойного культа, являясь излюбленными образами для представления умерших предков172. [206]
III
Очень значительное место среди хорезмийских терракот занимают разнообразные изображения животных. Это, прежде всего — к о н ь173 (табл. 78, 79, 80, рис. 1 — 2), затем верблюд174 (табл. 81, рис. 1 — 2) (причем это должно быть интересно для истории животноводства — в джанбас-калинских статуэтках представлены оба типа верблюда — бактриан и дромадер), б а р а н175 (табл. 81, рис. 5 — 6), повидимому, свинья, наконец, столь экзотические для Хорезма животные, как обезьяны176 (табл. 76, рис. 4), и носорог (табл. 80, рис. 4). Статуэтка этого последнего животного найдена на поверхности завала в купольном помещении замка № 36 в окрестностях Тешик-калы, относящегося к VIII в. н. э., что, впрочем, не является решающим для ее датировки, так как, несомненно, античные статуэтки очень часто встречаются на развалинах замков афригидского времени, — факт, понятный в условиях сохранившегося до сих пор изобилия находок античных вещей на окружающих такырах. Особо отметим ряд фрагментов фантастических животных, которые, по словам М. Е. Массона, в других районах Средней Азии обычно называются «аджахорами» (драконами). Здесь это чаще всего гротескные конеобразные фигурки с длинной, как у жирафа, шеей и украшенным рогообразным выступом лбом (табл. 80, рис. 3).
Кроме статуэток мы должны отметить изображение животных на ручках древнехорезмийских сосудов первых веков до н. э. Излюбленным здесь является лев, голова которого украшает верхний, повернутый кверху, край ручки сосуда — как на известном сосуде из аму-дарьинзкого клада177 (табл. 77, рис. 2 — 6). Льва же мы встречаем прекрасно выполненным в плоском рельефе на стенке крупного сосуда (хум?) из Кургашин-калы (табл. 82, рис. 5).
Особенный интерес представляет фрагмент черного сосуда из Джанбас-калы, с грубым изображением покрытого желтой краской тигра и расположенного над ним джейрана, выполненного слегка выпуклой контурной линией. Вряд ли это не древнейший из гончарных рельефов, которыми мы располагаем. Во всяком случае, он не моложе III в. до н. э. (табл. 82, рис. 4).
Основная масса статуэток животных, как и человеческие, датируются кангюйским и ранне-кушанским временем (III в. до н. э. — I в. н. э.) Наибольшее количество дали городища Джанбас-кала и Базар-кала. Часть головок коней, изящно выполненных, но уплощенных с нанесенным гравировкой недоуздком, несомненно, стилистически примыкает к выделенной выше группе «архаического стиля» (табл. 72, рис. 1).
В меньшем количестве статуэтки животных (бык, баран), стилистически легко отличимые от античных, встречены нами и в культурном слое позднеафригидских памятников в Тешик-кале. И. В. Воеводским в гончарной печи XI — XII вв. в хорезмийском городе Замахшаре в 1934 г. была найдена статуэтка быка178.
Нами на том же городище было в 1939 г. найдено несколько аналогичных статуэток, несомненно относящихся к раннему средневековью.
Это говорит о стойкости данной традиции, видимо, объясняющейся первоначальной значительной ролью этих изображений в религиозно-бытовой жизни древних хорезмийцев.
О пережитках тотемизма в быту современных народов Средней Азии нам уже не раз пришлось писать179.
Многочисленность находок статуэток животных на городищах античного Хорезма, нам думается, достовернее всего может быть разъяснена в свете предположений о сильных пережитках тотемических верований в быту древних хорезмийцев. Это целиком увязывается с общим архаизмом их общественно-бытового уклада, в частности с существованием общинных домов-кварталов, насчитывающих многие десятки и даже сотни комнат, и фактом сохранения дуально-родовой организации, отраженном в планировке поселений и в тамгах древних хорезмийских родов180.
Первое место среди изображений животных принадлежит, как мы видим, коню. [207] Изображения коня в терракоте могут быть разделены на две категории:
1. Небольшие, как правило, довольно грубо сделанные статуэтки коня, трактованного схематически, с утончающимися книзу широко расставленными, толстыми цилиндрическими ногами-подставками. В одном случае (Базар-кала) найдено миниатюрное схематическое изображение коня с высоким седлом на спине. Обычно эти статуэтки из отмученной чистой глины и покрыты сверху красной ангобой или лаком (иногда, впрочем, и без окраски) (табл. 81, рис. 79).
2. Крупные головки коней, изготовленные из совершенно другого теста, с сильной примесью кварцевой дресвы, при этом, обычно, излом дает характерную черную сердцевину — след неравномерного обжига статуэтки. Все находки дают только головы коней, причем ни разу не было найдено торса конской статуэтки соответствующих размеров и техники изготовления.
Выполнение изображения также резко отличается от статуэток первой группы. Крупные конские головки распадаются на два варианта: А. Очень грубо выполненные плоские изображения голов коня, с почти прямым углом перехода от боковых сторон изображения к верхней и нижней, с изображенной насечкой гривой, часто с разинутой пастью, грубо моделированными ноздрями и характерным утолщением передней части морды (табл. 79, рис. 5 — 6).
Б. Изящные, с большим реализмом и экспрессией выполненные изображения, с плавной округлостью линий, с умелой передачей не только внешних форм, но и эмоций изображаемого животного — прижатые уши, прекрасная передача рта и губ в момент ржания и т. д. (табл. 78). Встречаются и головки, занимающие промежуточное место между обоими вариантами.
Несмотря на различие внешнего вида обоих вариантов изображений, они и по материалу, и по сохранению только головок коней должны быть объединены в одну группу.
Одна находка в 1939 г. на Базар-кале дает возможность выяснить функцию этих головок. Это не часть статуэтки. Найденная в Базар-кале головка сохранила продолжение и оказалось, что вслед за шеей коня, вместо ожидаемой линии спины, мы встречаем глубокую полукруглую выемку, а внизу вместо ожидаемых груди и ног передняя плоскость скульптуры уходит вниз плавной, слегка вогнутой линией (табл. 80, рис. 1 — 2).
В целом перед нами, несомненно, украшенная протомом коня ручка какого-то крупного сосуда, повидимому, об этом говорит сильная примесь кварца к гончарному тесту, рассчитанного на близость к огню. В то же время особая тщательность и тонкость выполнения некоторых из головок коней не позволяет здесь видеть обычную хозяйственную посуду. Я думаю, что у нас есть все основания предполагать здесь сосуды, имевшие какую-то культовую функцию, вернее всего, связанные с зороастрийским культом жаровни181.
Особенное место коней в изобразительном искусстве Хорезма заставляет вспомнить о крупном, но до сих пор далеко не оцененном месте, которое конь занимает в древних домусульманских верованиях Средней Азии.
Уже Геродот (I, 215) в своей характеристике массагетов пишет: «Из богов массагеты чтут только солнце, которому приносят в жертву лошадей. Смысл жертвы этой тот, что быстрейшему из всех богов подобает быстрейшее животное».
Несмотря на лаконичность этого сообщения, оно дает право для ряда существенных заключений. Комплекс верований, связанный с жертвоприношениями коня, известен у ряда народов, локализация и этно-культурные связи которых поразительно соответствуют общему направлению древнейших, восходящих еще к неолиту, культурных связей хорезмийской цивилизации. Это, во-первых, древняя Индия, с ее знаменитым ритуалом жертвоприношения коня — «а ш в а м е д х а»; затем, это угорские племена Зауралья — маньси и ханты, у которых ритуал жертвоприношения коня дожил до революции; наконец, это — тюркские народы Алтая. Поднятие шкур убитых коней на высоких наклонных шестах у алтайцев прозрачно ассоциируется с солярными корнями этого культа, отмеченными Геродотом у массагетов. Индийский комплекс «ашвамедхи», следы которого мы находим в ритуале заклания коня и у упомянутых народов Севера, чрезвычайно характерен. Конь, специально воспитанный, в течение года бродит по стране, окруженный заботами и почестями; затем в торжественной обстановке он убивается, и царица, ложась рядом с трупом божественного животного, имитирует половой акт с ним.
Связь этого обряда с магией плодородия, с представлением о божественном происхождении царской династии от небесного коня, с исследованным Фрэзером в его «Золотой ветви», комплексом жертвоприношений людей и животных, обеспечивающим плодородие земли, размножение животных и людей, не подлежит сомнению.
Ближе всего типологически жертвоприношение коня у племен древнего и современного Среднего Востока от Индии до устьев Оби [208] стоит к медвежьему празднику народов Севера и особенно Дальнего Востока (Приамурья, Сахалина).
Культ «небесных коней» «тянь-ма» нашел богатое отражение в сведениях о верованиях народов Средней Азии кангюйско-кушанского периода, которое мы можем почерпнуть в китайских источниках. Сведения об этом культе мы находим в Ши-цзи и Цянь-Хань-шу, в отчете о путешествии Чжаи-цяня. От «небесных коней» информаторы Чжан-цяня вели происхождение знаменитых ферганских «потокровных» лошадей, бывших причиной первых китайских походов на Фергану в конце II в. до н. э.182.
В Танской истории, в рассказе о Тухоло (Тохаристан), мы находим сведения о том, что культ небесного коня, якобы жившего в пещере на южном склоне горы Поли, имел здесь место еще в VII — VIII вв. и. э. Жители перегоняли кобылиц пастись к этой горе, в результате чего от этих кобылиц якобы родились драгоценные «потокровные лошади»183.
В комментарии Инь-их-анской истории мы находим сходное сообщение об аналогичном обычае в Фергане II — I вв. до н. э., жители, которой пригоняли своих кобылиц в горы для случки с «небесными конями»184.
Пережитки культа коня сохранились в Средней Азии и до настоящего времени. Как нам сообщил М. Е. Массон, в Араване, в Фергане ему пришлось видеть старинный мазар, где перед высеченными на скале изображениями коней возжигали до недавнего времени светильники и сами изображения являлись предметом религиозного почитания.
В Средней Азии и, в частности, в Хорезме многочисленны почитаемые религиозными мусульманами места, связанные с легендарным конем четвертого халифа Алия — Дульдулем. Отмечу, в частности, теснину Дульдуль-атлаган — «Прыжок Дульдуля» на Аму-Дарье, близ южной границы Хорезма. Как сам Алий, так и его конь, несомненно, являются здесь лишь трансформацией домусульмаиских мифологических образов.
«Асп» — «конь» — необычайно распространенный составной элемент собственных имен древней Средней Азии и Ирана. Это слово входит в огромное количество как личных имен, так и географических названий. Упомянем, в частности, это слово как составную часть имен многочисленных героев Авесты, прежде всего каянидских царей.
Из географических названий упомянем Зариаспу, одно из имен древних Бактр и орошавшей область этого города реки, — имя, которое может быть переведено как «златоконная». Не менее характерно название Хазараспа — одного из древнейших городов Хорезма. Современная узбекская легенда связывает возникновение этого города, название которого этимологизируется как «тысяча коней» с именем пророка Сулеймана, который, подмешав к воде протекавшего здесь источника опьяняющий напиток, хитростью овладел тысячью прилетевших на водопой крылатых коней, отрезал им крылья и заставил служить человеку185.
Легенда в высшей степени интересна, так как в исламизированной форме перед нами выступает, несомненно, древний хорезмийский миф о связанных с культом воды «небесных конях», ферганские и тохаристанские варианты которого дошли до нас в сухой передаче китайских хронистов. Стоит в связи с этим упомянуть «водяного коня» (asp-i-avi), фигурирующего среди других мифологических животных в Бундахишне186.
В этой связи получает свое место и образ гиппокампа, крылатого коня-змея, который мы находим на некоторых древних хорезмийских печатях (табл. 83, рис. 10).
Место коня в древней среднеазиатской мифологии представляет особый интерес и заслуживает особого исследования, которому мы посвящаем значительную часть экскурса III нашей книги. Отмечу лишь важнейшие положения, являющиеся выводом из этого нашего исследования.
Конь связан с тотемическим культом одной из выступающих в Авесте фратрий древних племен Восточного Ирана и Средней Азии, фратрии Пурушаспа, противостоящей фратрии Атвья, тотемом которой является бык187. Анализ, даваемый нами в упомянутом экскурсе, показывает вместе с тем, что первоначально именно с фратрией коня был связан культ Ангро-Майнью — одного из врагов-близнецов авестийских дуалистических мифов, восходящих исторически к первобытному дуализму фратрий188. Конь является атрибутом Ангро-Майнью, и в образе черного коня он и сопровождающие его демоны нередко выступают в Авесте, Бундахишне и других зороастрийских произведениях189. [209]
Другим тотемом этой фратрии является змея, образ, также тесно связанный с комплексом Ангро-Майнью190.
Это, возможно, проливает свет на распространенность в древнем среднеазиатском и родственном ему скифском изобразительном искусстве образа гиппокампа — коня-змея, который вряд ли можно нацело объяснить влиянием образов греческого искусства.
Во всяком случае, к ранее зарегистрированным среднеазиатским изображениям гиппокампа191 надо прибавить изображение его на трех хорезмийских печатях, найденных в окрестностях развалин Беркут-калы.
Существенно отметить, что по своему типу отмеченный выше фрагмент статуэтки носорога, как и головки коней, должен быть отнесен к комплексу рукояток культовых жаровен.
Образ носорога в древней и средневековой иконографии постоянно ассоциируется с образом коня. Характерно, что в древнем среднеазиатском мифе об Огуз-кагане, носителе тотемического образа быка192, в качестве первого подвига этого героя выступает убийство им чудовищного носорога. Несомненны связь этого сюжета с комплексом дуалистических мифов о борьбе тотемов двух фратрий. Это позволяет нам ассоциировать образ носорога с фратрией коня, противостоящей фратрии быка193.
Большой интерес наша статуэтка представляет и с другой стороны. Трактовка носорога очень реалистична. Прекрасно передан экстерьер животного, характерный загривок, опущенная голова, торчащие в сторону уши, маленькие глаза. В полном соответствии с натурой расположен и трактован рог. Не уступая по реализму описанным выше изящным головкам коней, наше изображение носорога говорит, несомненно, о прекрасном знакомстве мастера если не с самим объектом, то с его изображениями, исходящими из хорошо знающей живого носорога среды. Это обстоятельство и прочность индо-хорезмийских связей и позволяет отнести эту статуэтку, как и описанную выше группу человеческих изображений, к кушанской эпохе, эпохе внедрения в Хорезм буддизма, интенсивных политических и культурных взаимоотношений между народами различных окраин кушанской империи194.
Вместе с тем использование идущего из индо-буддийского круга образа носорога для оформления ручки традиционно хорезмийской культовой жаровни для священного огня говорит о быстрой ассимиляции индо-буддийских элементов туземной религией, проливая свет на одну из сторон процесса формирования сложного северобуддийского синкретизма и возникновения тех зороастрийско-буддийских образов, которые отражены в памятниках хорезмийского искусства афригидской эпохи, изображающих хорезмийскую четверорукую богиню195.
В этой связи остановимся на найденных в той же Джанбас-кале двух статуэтках обезьян. Обе статуэтки сидячие, с вытянутыми вперед ногами и разведенными в стороны, к сожалению, отломанными у обоих статуэток руками. Обе статуэтки довольно схематичны, но соединение почти человеческого торса с тонкой талией и широкими бедрами с мордой животного не оставляет сомнений в том, что они изображают. Более грубые, чем изящные обезьяньи статуэтки Гандхары и Восточного Туркестана196, они входят, несомненно, в широкий круг образов индийского происхождения, внедрение которых в среднеазиатское культовое искусство связано с кушанской эпохой.
IV
Стилистические особенности хорезмийских изображений животных, как грубых, так и изящных, позволяют выделять их, как и хорезмийские человеческие статуэтки, в особую группу, отличную и от согдийского и от восточно-туркестанского круга, несмотря на близость тематики изображений и несомненную идентичность их общественной функции. Хорезмийское искусство — более просто и скупо в своих выразительных средствах, вместе с тем более экспрессивно, чем изысканное искусство Согда и Сериндии. Резкие очертания хорезмийских статуэток, подчеркнутая экспрессия прекрасных головок коней, ясность и спокойствие линий человеческих изображений, строгих и подтянутых, внимание в первую очередь к [210] объемной трактовке формы, строгая традиционность поз резко контрастируют с плавными и вычурными очертаниями, вниманием к пышному, декоративному оформлению деталей орнамента, одежды, убранства, столь типичными как для Согда, так и для Восточного Туркестана. Разница хорезмийского, с одной стороны, и согдийского и восточно туркестанского искусства, с другой — это разница между Дорикой и Коринфом. Перед нами две струи в художественной культуре одной исторической эпохи. Я склонен видеть объяснение этому явлению в различии общественного и политического укладов и исторических условий различных частей Средней Азии. Пышный, изысканный декоративизм согдийского и синцзянского искусства предкушанской и кушанской эпохи развился в условиях малых олигархических торговых городов-государств, в условиях непосредственных и очень сильных влияний со стороны сперва искусства бактрийских греков, затем искусства Индии. Простой и суровый конструктивизм хорезмийского искусства, его скульптурная четкость и экспрессия сложились в условиях аграрной страны, тесно этнографически связанной с окружающими кочевыми племенами, в условиях большой централизованной деспотии восточного типа, в условиях сохранения мощных пластов первобытно-общинного уклада197. Внешние влияния, доходившие до Хорезма долгими и опосредствованными путями, проникали в хорезмийскую художественную культуру лишь в порядке органического освоения их ею, полной их ассимиляции, подчинения их хорезмийской художественной традиции.
Эта линия развития хорезмийской художественной культуры, отраженная и в суровом и простом, воинственном облике строго конструктивной хорезмийской архитектуры античной и афригидской эпох и в традиционном образе Сиявуша на идущем торжественным шагом коне на реверсе хорезмийских монет, донесенном хорезмийской нумизматикой от времени сакско-массагетских движений II — I вв. до н. э. до арабского завоевания и даже до конца VIII в., вопреки мощным влияниям кушанской, сасанидской и китайской чеканок, против которых не могло устоять ни одно другое государство Средней Азии, продолжается до самого падения династии афригидов в последнем десятилетии X в. Суровый стиль и своеобразие культурны воинственных земледельцев Хорезма нашли свое выражение в той сжатой и яркой характеристике, которую дает хорезмийцам X века ал-Макдиси:
«Они люди разумения, науки, фикха, способностей и образования… Но в них есть замкнутость и нет изящества, элегантности, блеска и тонкости… Они люди гостеприимные, любители поесть, храбрые и крепкие в бою, у них есть особенности и удивительные свойства»198. [211]
III. КОННИЦА КАНГЮЯ
«Они хорошие конные и пешие воины,
вооруженные луками, мечами, панцирями, медными топорами,
в битвах носят золотые пояса и золотые повязки».
Страбон, XI, 8.
I
В 701 г. от основания Рима, за 53 года до начала нашего летоисчисления, Рим потрясла весть о страшной катастрофе, разыгравшейся на далеких восточных рубежах республики. Сорокатысячная армия триумвира Марка Лициния Красса, состоявшая из семи легионов, 4 тысяч всадников и стольких же метателей копий была уничтожена воинами Сурены, полководца царя парфян Орода. В Сирию вернулось не более четверти римлян, перешедших незадолго перед этим Евфрат. Около20 000 пало в бою. Около 10 000 было уведено в плен на восточную границу Парфии и поселено в окрестностях Мерва199. Сам Красс и большинство его генералов и офицеров погибли.
Голова триумвира была доставлена в Арташату, столицу Армении, где царь Ород праздновал свадьбу своего сына Пакора с дочерью армянского царя. Послы Сурены прибыли в разгар торжеств, когда оба царя и гости наслаждались поставленной для них малоазийскими актерами трагедией Еврипида «Вакханки».
Надетая на тирс предводительницы вакханок, несущихся в дионисийской пляске, голова старого римлянина появилась перед победителем под звуки вакхической песни:
«Мы несем домой
Из далеких гор
Славную добычу —
Кровавую дичь!»
Так навсегда была остановлена экспансия Рима на Восток, в глубь среднеазиатско-иранского мира, западным форпостом которого непоколебимо стояла Парфянская империя, некогда созданная союзом воинственных кочевников южного Туркменистана — парнов и даев.
Победа при Каррах была, не делом случая. Здесь, впервые в истории римского оружия, римской тактике — высшему достижению военной истории античного Средиземноморья — оказалась противопоставленной другая тактика, оказавшаяся, в условиях восточного театра, не только не менее, но более эффективной. Это была настоящая революция в военном деле античности. Линейной тяжелой пехоте, тактика которой в римском манипулярном строе достигла зенита своего развития, была противопоставлена линейная тяжелая конница, вооруженная в одинаковой мере для дальнего и ближнего боя, для обороны и для наступательного удара. Гоплиту, разновидностью которого являлся римский легионер, оказался противопоставленным новый тип воина — стрелок-катафрактарий.
Вот как описывает Плутарх («Красс», 23 сл.)200 конницу Сурены и ее действия. Сурена противопоставил римскому боевому построению развернутый фронт катафрактариев, закованных в блестящие доспехи из «маргианского железа» на покрытых такими же доспехами конях и стоявших сомкнутым строем. Легкая пехота, шедшая, как обычно, впереди легионов, была опрокинута дождем непрерывно падавших парфянских стрел. Несравненно большая масса и плотность «огня» парфянских лучников заставила римских стрелков искать спасения в бегстве. Парфяне начали медленно охватывать с обеих сторон построенных в каре римлян, непрерывно осыпая их градом стрел и выбивая сотни воинов в самой глубине построения. Боевое питание парфянских стрелков [212] осуществлялось непрерывно подвозившими стрелы караванами верблюдов.
Попытка контратаки римских всадников, стрелков и части легионеров во главе с Публием Крассом потерпела крушение. Парфяне отступили, дали отряду Публия Красса оторваться от главных сил, а затем решительным контрударом остановили его натиск и охватили его с фланга и тыла. Напрасно бросались на пики катафрактариев молодой Красс и его конница. Его отряд был замкнут в кольцо и расстрелян. Из 6000 — 5500 было убито, остальные взяты в плен.
Узнав о гибели сына полководца и его отряда, лагерь римлян пришел в полное расстройство. Только тот факт, что парфяне дали римлянам целую ночь передышки, видимо, не будучи до конца уверенными в сокрушительной силе своей тактики, отсрочил гибель войска Красса, отступившего за укрепления Карр, бросив на поле боя 4000 человек раненых и отставших. Но голод выгнал римлян из Карр. Началось отступление на север, в Армению, представлявшее в сущности агонию армии. Парфяне спокойно следовали за остатками легионов, ни на минуту не давая им остановиться. Римляне отступали, по существу бежали, бросая сотни и тысячи ослабевших, теряя целые части, отбивавшиеся от главных сил и попадавшие в окружение. При Сеннаке деморализованные римляне согласились на переговоры с парфянами, предложившими, как известно, весьма умеренные условия мира. Последующие обстоятельства не вполне ясны. Видимо, длительное нервное напряжение и совершенно расшатанная дисциплина римлян вызвали панику среди них во время переговоров. Один из римских офицеров заколол парфянского конюха. В ответ на это началось истребление остатков римлян, во время которого были убиты все римские командиры и покончил самоубийством сам Красс. Но это был лишь эпилог. По существу, дело сделано было уже при Каррах201.
II
Чрезвычайно существенно, что применение парфянами новой тактики при Каррах было настолько неожиданным для римлян, что вызвало катастрофический разгром армии Красса, оказавшейся совершенно неспособной противостоять тактике Сурены. Следовательно, многолетний опыт войн на ближнем Востоке против Митридата и Тиграна, против малоазийских династов, против народов Кавказа и Боспора, против самих парфян, наконец, не мог ни в какой мере подготовить римлян к этой тактике. И действительно, все, что мы знаем из истории Митридатовых войн и предшествующих военных столкновений с самими парфянами, не дает нам ничего, хотя бы отдаленно напоминающего парфянскую тактику, примененную ими впервые в 53 г. до н. э.
Важно отметить при этом, что попытки широкого применения конницы против римской пехоты делаются в это же самое время, как справедливо отметил еще Моммсен, борющимися с Римом народами на разных границах республики.
«Неоспоримое превосходство римской пехоты в рукопашной схватке, — пишет этот ученый, — повидимому, надоумило противников Рима, совершенно чуждых друг другу, одновременно и с одинаковым успехом в самых противоположных частях света противопоставить ей конницу и борьбу на расстоянии. То, что вполне удалось Кассивелавну в Британии, отчасти — Верцингеториксу в Галлии, то, что в известной степени пытался сделать Митридат Эвпатор, в большем масштабе и с большей полнотой выполнил визирь Орода»202. Однако сопоставление тактики Сурены с тактикой Кассивелавна, Верцингеторикса и Митридата может быть принято весьма и весьма cum grano salis. Кассивелавн применяет по-новому весьма архаический строй боевых колесниц, и сходство здесь лишь в том, что ему удается использовать их как орудие дальнего боя203.
Верцингеторикс использует широко массы конницы для господства над коммуникациями Цезаря204, но нигде не противопоставляет на поле боя линейную конницу римской пехоте. То же самое надо сказать о тактическом применении конницы Митридатом205. По существу, во всех трех приводимых Моммсеном случаях мы имеем тактику, целиком вытекающую из принципов древней «скифской стратегии», тактику, в которой мы можем видеть лишь первые делаемые ощупью шаги для выработки приемов борьбы с римской линейной пехотой.
Наоборот, тактика Сурены производит впечатление чего-то весьма законченного, разработанного во всех деталях, чего-то, что имеет позади длительную предисторию удачных и [213] неудачных опытов, проверок, усовершенствований. Новая тактика, сочетаемая с новой стратегией, во многом принципиально отличной от старой, «скифской», с новым типом наступательного и оборонительного вооружения воина, делающим необходимым новый тип боевого коня — все это является слишком сложным и вместе с тем слишком гармоническим комплексом, чтобы приписать его создание индивидуальному творчеству хотя бы и гениального полководца и думать о возможности быстрого его создания. Переворот был настолько значителен и настолько неожидан здесь, на западно-иранском театре, что мы не можем, конечно, ни приписать изобретение новой тактики Сурене, ни предположить ее постепенное развитие на западе Ирана.
Правда, первое тактическое применение тяжелой конницы в ответственный момент боя мы находим уже у Александра Македонского206, причем совершенно несомненным является тот факт, что эта реформа конницы, введение тяжеловооруженных копейщиков, стоит в непосредственной связи с подготовкой похода против персов, иррегулярным конным массам ополчения которых Александр впервые противопоставил регулярную тяжелую кавалерию, которой он был обязан целым рядом своих побед207. Однако тактика Александра (фланговый удар тяжеловооруженных конных копейщиков) почти ничего общего не имела с тактикой Сурены. Да, кроме того, как справедливо отметил Энгельс, «после смерти Александра мы уже больше не слышим об этой блестящей греческой и македонской коннице. В Греции снова получила преобладание пехота, а в Азии и Египте конница быстро выродилась»208. Правда, тяжелую конницу мы эпизодически встречаем в дальнейшем не раз. В частности, термин «катафрактарии» впервые применяется для обозначения тяжеловооруженной конницы войска Селевкидов (Полибий, ХХХI, 3, 9; Ливий, XXXVII, 40: equites loricati, cataphractos ipsi appelant). Однако, видимо, эти катафрактарии являлись лишь эпигонским сохранением традиций Александра, мало содействовавшим борьбе Антиоха III против, регулярной пехоты Рима209. Есть свидетельства и более ранние, чем походы Александра. На тяжело вооруженных всадников у ахеменидских персов указывает еще Ксенофонт (Кироп. VI, 4,1; VII, 1,2). Однако и здесь это упоминание скорее эпизодическое. Почти никакой роли в описанных античными авторами битвах персов эта тяжелая конница не играла210. К тому же, как мы увидим, пестрый состав персидской армии делает не невероятным, что ахеменидские катафрактарии пришли оттуда же, откуда несколько веков спустя привел свою тяжелую конницу Сурена.
Прямые свидетельства археологических памятников говорят нам за то, что этот тип вооружения и тактики был новостью не только для римлян, но и для самих парфян.
Памятники ранне-парфянского искусства, в частности изображения Аршака на реверсе аршакидских монет, дают нам образ легковооруженного лучника как основной образ парфянского воина211. Этот образ держится до самого конца аршакидской династии212. Этот же образ мы находим на изображающих парфянских воинов терракотах213. Тактика Сурены производит впечатление целиком перенесенной откуда-то издалека, из-за пределов ближайшей сферы информации римлян214, оттуда; где она прошла тот многовековый предварительный путь развития, пока не отлилась в те законченные формы, в которых она выступает при Каррах. Небезынтересно в этой связи вспомнить, кто такой был сам Сурена — этот блестящий аристократ, всемогущий визирь и победоносный главнокомандующий Орода.
Синтез исследования истории дома Суренов, [214] проделанного Эрнстом Герцфельдом в его «Sakastan», мы находим в недавнем очерке этого автора — «Archeological History of Iran»215. Согласно Герцфельду, Сурены — один из знатнейших княжеских домов Парфии и сасанидского Ирана — происходят от рода вождей (которых Герцфельд, конечно, именует в соответствии о обычной для современной европейской историографии модернизаторством «feudal lords») саков, поселенных Митридатом II между 123 и Ш гг. до н. э. на юго-востоке парфянских владений — в Сакастане (древняя Дрангиана, нынешний Сеистан). Глава этого полунезависимого сакского царского дома, резидировавшего в Сеистане и пришедшего сюда с севера, из прихорезмийских кочевий, в период наступления приаральских сакараваков на восточные области Парфии (между 130 и 123 гг. до н. э.)216 и выступает в качестве руководителя вооруженных сил Парфянской империи, через 70 лет после бурных событий между смертью Митридата I и вступлением на престол Митридата II.
Действительно, индопарфянские и индосакские правители I в. до н. э. — I в. н. э., исторически связанные с домом Суренов и дрангианскими саками, изображают себя на своих монетах, в противоположность парфянам собственно, в тяжелом вооружении.
На монетах Вонона (конец II в. до н. э.) мы видим катафрактария-копейщика в пластинчатом доспехе217. Такого же копейщика в длинной пластинчатой броне дают монеты Аза I (середины I в. до н. э.)218 и Аза II (ок. 15 г. до н. э. — 20 г. н. э.)219.
Итак, Сеистан — резиденция Суренов в I в. до н. э. или далекий северо-запад Средней Азии, откуда сакараваки пришли за 70 лет до этого, повторяя, видимо, путь, некогда пройденный дрангами, — вот две вероятные области сложения тактики, стоившей Крассу головы, а Риму — его претензий на господство над Парфией.
Против Сеистана мы можем выдвинуть сразу два существенных аргумента.
Сеистан занимал в эту эпоху слишком второстепенное место в среднеазиатско-иранском политическом концерте. Лишь значительно позднее, в I в. н. э., после покорения бассейна Нижнего Инда, потомки Суренов Сакастана становятся «царями царей», соперничающими с Аршакидами.
Правда, Сеистан являлся важным узлом культурных, экономических и политических связей между Ираном, Средней Азией и Индией. Но для того чтобы создать новую тактику со всем связанным с ней материальным комплексом, нужны были другие условия. Нужна была достаточно могущественная держава, в рамках военной организации которой мог бы развиваться в обстановке длительных войн этот процесс.
История Дрангианы, насколько мы ее знаем, не дает для этого материала. Она политически ничем не выделяется до образования здесь в конце II в. до н. э. сакаравакского княжества Суренов, из остальных сатрапий ахеменидской, селевкидской, парфянской монархий. Никаких специфических условий для развития здесь принципиально иного, чем в других, смежных областях Ирана и Индии, типа вооружения и связанной с ним тактики, мы не имеем. Вряд ли и условия сакского княжества конца II в. — начала I в. до н. э. соответствовали этой задаче.
В самом тексте Плутарха мы находим косвенное указание на то, что не из Сеистана пришло новое оружие. «Шлемы и брони парфян, — говорит он, — были сделаны из маргианского железа» («Красс», 24). Так как никакого «мервского железа» нет и, конечно, не было и во времена Орода, речь здесь явно идет о том, что вооружение армии Сурена было изготовлено мервскими оружейниками. А это сразу выводит нас из узких рамок Сеистана в более обширный круг хорасанско-среднеазиатских связей.
Видимо, не с юго-востока, а с северо-востока надо начинать генеалогию интересующего нас комплекса. И здесь, мне думается, наш материал и выводы, к которым мы пришли в предыдущем изложении, позволят нам по-новому осветить этот интересный вопрос военной истории античного мира.
Образ всадника, встречаемый на хорезмийских монетах, чаше № 46, Аниковском блюде, находимый нами среди терракотовых статуэток, на гончарных рельефах, на геммах, является центральным образом хорезмийского изобразительного искусства и политической символики хорезмийских монет.
Мы попытались показать выше, что это — символ самого Хорезмско-кангюйского государства, образ легендарного предка правящей династии Кангхи-Хорезма — Сиявуша, хорезмийской ипостаси Сабазия, не только иконографически, но и исторически тождественный богу-всаднику фракийского мира.
Мы показали, что отсюда, из Кангхи-Хорезма, этот образ пришел в сакскую чеканку I в. на Нижнем Инде, ибо массагетское племя сакараваков, вторгшееся сюда из Сеистана, начало свой путь от Хорезма и вожди его, как и вожди парфян, вероятно, были связаны родственными узами с домом Сиявушидов220.
Сейчас нас интересует другая сторона вопроса, также, впрочем, связанная с [215] политической историей — наступательное и оборонительное вооружение хорезмийских воинов, анализ которого поможет нам, как я надеюсь, не только нащупать некоторые существенные линии и внешнеполитической и внутренней социально-экономической истории Хорезма, но и разрешить поставленную нами в начале этой главы более широкую военно-историческую задачу.
В. Laufеr в своем интереснейшем исследовании о китайских глиняных статуэтках блестяще показал, что в ханьскую эпоху происходит резкое изменение типа вооружения, а соответственно и тактики китайских войск, причем это сопровождается параллельным процессом у народов Сибири, устанавливаемым археологически221. На первый план на место доханьской пехоты и колесниц выдвигается тяжеловооруженная конница, закованная в пластинчатую броню и вооруженная луками, длинными копьями и мечами.
По мнению Лауфера, это результат влияния иранского вооружения и тактики, проникшего в Китай в III в. до н. э., сперва через гуннскую культурную среду222, а затем, в результате известных походов китайцев в Среднюю Азию в конце II в. до н. э., а позднее — и непосредственно. Этот взгляд развивают в дальнейшем многие авторы (М. Ростовцев223, A. von Le Coq224, Ф. Розенберг225 и др.).
Мы не можем не возразить здесь против крайне расширительного употребления термина «Иран», «иранцы». Как мы не раз подчеркивали, историческое развитие западных областей Ирана (Мидия, Персида), с одной стороны, и населенных иранскими по языку народами стран Средней Азии, включая Бактрию и Хорасан, шло во многом разными путями. Конечно, нельзя игнорировать и взаимодействия между обеими этими областями, тем более существенное, что на протяжении истории они не раз входили в рамки общих политических образований. Но все же второй из рассматриваемых нами историко-культурных районов имел весьма отличную от Ирана в собственном смысле историческую судьбу, развиваясь самостоятельными путями, входя в сферу иных культурно-исторических связей, из которых важнейшими являются восточно-европейские, индийские и восточно-туркестанско-китайские.
Для того чтобы решить, о каком конкретно из этих двух комплексов мы можем говорить как о первоисточнике революции военной техники Китая на рубеже архаического и ханьского периодов, обратимся непосредственно к нашему материалу и посмотрим, что для интересующей нас проблемы могут дать военно-археологические памятники древнего Хорезма.
Наиболее полно представлено вооружение хорезмийских воинов на Аниковском блюде226 (табл. 86).
Воины одеты в перетянутую золотым поясом, докрывающую все тело пластинчатую или чешуйчатую броню (видимо, это длинная кожаная одежда, на которую нашиты металлические пластинки довольно крупного размера; форма пластинок сильно варьирует, сохраняя однако однообразие в доспехе каждого воина), полы которой спускаются до щиколоток. У одного из всадников (правый нижний) пластинчатой броней покрыт весь корпус коня.
На головах у всадников округло-конические шлемы, увенчанные высокими столбообразными, закругленными сверху шишаками. У предводителя — шлем более сложной формы, трехрогий (вернее, по обе стороны шишака расположены два рогообразных выступа). Очелья шлемов посредине спускаются вниз на лоб треугольным выступом. Шлемы имеют назатыльники, видимо (это хорошо видно у среднего всадника с левой стороны), сделанные из кольчужной сетки. Щиты небольшие, круглые, с изображением на одном из них, повернутом внешней стороной (у воина на башне) пальметки, тождественной с пальметкой в руках у царя на чаше 286 атласа Смирнова. У некоторых воинов щиты висят за спиной.
Мечи длинные, прямые, с крестообразным эфесом. Некоторые воины вооружены палицами. У нижнего справа — палица с шаровидным навершьем. У второго снизу — навершье тяжелое, фигурное, загнутое на одну сторону. Обе палицы, видимо, метательные, причем вторая примыкает к кругу бумерангообразных орудий, находя параллели в этнографическом материале Индии. Предводитель вооружен кроме меча боевым чеканом, характерной формы, с ромбоидальным боевым концом.
Тот же тип длинной чешуйчато-пластинчатой брони мы видим на другом блюде (найденном в д. Кулагыш Кунгурского у. Пермской губ.) из эрмитажной коллекции, с изображением поединка двух пеших воинов227. Трехрогие шлемы, характерная форма боевого топора-чекана и остальные детали вооружения этих бойцов делают весьма вероятным, что Кулагышское [216] блюдо, как и Аниковское — хорезмийского происхождения. Знамя с тремя треугольными фестонами и туги-бунчуки на длинных пиках и длинные, слегка изогнутые трубы-рога дополняют характеристику материальной части снаряжения хорезмийских войск. Воины сидят на седлах с высокими луками, приспособленных для тяжеловооруженных всадников.
Чрезвычайно характерно стрелковое вооружение, которое мы видим у всех всадников, кроме вождя — твердые колчаны в виде песочных часов, закрытые сверху крышками, висящие справа — и мягкие чулкообразные налучья, рассчитанные на хранение спущенного лука — у левого бедра, под ножнами меча.
Кони — высокие, стройные с длинным мощным корпусом, с длинной красиво изогнутой шеей. Несомненно, это кони той же породы, что изображенный на оттиске большой печати из Тешик-кала со сценой охоты на дикого козла, где тонкая с красивым лебединым изгибом шея и небольшая сухая голова коня говорят о его высокопородности и близости к лучшим представителям современного текинца. Из хронологически и территориально близких памятников конь с хорезмийской печати больше всего напоминает коня с известного согдийского щита из замка на горе Муг.
Весь комплекс вооружения ничего общего не имеет с вооружением сасанидского Ирана. Этот тип вооружения катафрактария лишь один раз встречается на сасанидских изображениях — на знаменитом рельефе с конным изображением Хосроя II (которое, впрочем, в последнее время есть тенденция относить к Перозу)228.
Сасанидское вооружение не знает ни этого типа брони, ни налучья — лук, когда не был в употреблении, вешался на шею229.
Колчан сасанидов — очень длинный, широкий и плоский, имеет весьма характерную, заостряющуюся книзу форму230.
Исторически тип сасанидского колчана и способа ношения лука восходит к древней переднеазиатской традиции, унаследованной обитателями позднеантичной Персиды от их предков ахеменидской эпохи, где этот тип длинного, широкого, слегка суживавшегося снизу колчана, носившегося за спиной, и лука, носившегося без налучья, отражен на великолепных изображениях знаменитого фриза стрелков во дворце в Сузах231.
Как известно, наряду с этим типом стрелкового вооружения персы иногда применяли и скифский тип колчана-налучья, нося его иногда на левом бедре, иногда — по обычному своему способу — за спиной232.
Ахеменидо-сасанидский комплекс уходит своими корнями в глубокую переднеазиатскую древность. Уже на изображении Нарамсина Аккадского налучье отсутствует. Лук держится непосредственно в руках. Этот же способ ношения лука мы находим и на позднейших месопотамских рельефах, так же как и на сирийских233, на одном из которых мы видим лук, надетым через плечо, а широкий и плоский колчан перекинут на перевязи за спину. Лишь изредка234 мы встречаем у ассирийцев, видимо, под влиянием кочевников-иранцев, использование колчана в качестве налучья, но носился он по преимуществу за спиной.
Напротив, исследуемый тип брони, шишака и, особенно, колчана и налучья, крайне широко распространен в I и в начале II тысячелетия н. э. в Центральной Азии. Таков колчан на всех изображениях воинов на фресках пещерных монастырей Восточного Туркестана235. Этот же тип мы встречаем и на статуэтках, происходящих оттуда же, и в танских рельефах236 как вооружение северо-китайских воинов.
Этот тип характерен для изображения всадников на древнетюркоких; и кыргызских писаницах237 и для синхроничных погребений Алтая и Минусинского края238 в XII — XIII вв. переживает в половецком и монгольском вооружении и поныне сохраняется у лоло-туземцев юго-западного Китая239. Этот тип, связанный с иным расположением стрел в колчане (остриями вверх) и ношением на правом боку, резко отличается от древних и ранне-средневековых форм как скифского треугольного горита, носившегося на левом боку и зарегистрированного в древнейших скифских памятниках, так и передне-азиатского колчана, носившегося, как правило, за спиной и близкого по форме описанному выше для сасанидского периода.
Свойственный хорезмийским воинам тип [217] налучья мы опять находим на изображениях воинов на восточно-туркестанских фресках, на изображении согдийского всадника на щите с горы Муг240, на известном изображении древнетюркского всадника из Минусинского края, где мы находим и описанный выше тип колчана241.
Если мы прибавим сюда колчан и покрой кафтана на чаше 46242, то мы убедимся, что комплекс древнехорезмийского, так же как и согдийского, вооружения и одежды, являясь независимым от культуры сасанидского Ирана, входит в более широкую культурную общность, объединяющую народы Средней и Центральной Азии.
Основной ареал распространения этого комплекса вооружения, взятого в целом (ибо отдельные его элементы, как мы увидим ниже, встречаются и за его пределами), весьма интересен в историко-культурном отношении. Он полностью совпадает с ареалом распространения массагетов, с одной стороны, и юечжи — с другой, что является новым аргументом в пользу теории Клапрота-Ремюза о тождестве этих народов.
К сожалению, монеты «Великих кушанов» не дают нам интересующего нас образа всадника, который помог бы нам выяснить тип вооружения кушанской конницы. Но зато мы имеем замечательную статую Канишки, длинный кафтан которого, доходящий до щиколоток, тяжелые сапоги со шпорами и длинный тяжелый меч, на рукоять которого опирается царь, не оставляют сомнения в том, что и кушанские всадники, по своему вооружению, примыкали к изучаемому нами комплексу243.
Он, напротив, совершенно чужд скифам, что лишний раз показывает несостоятельность гипотезы Германна, Юнге и др. авторов, считающих массагетов лишь подразделением саков. Скифское, в том числе и сакское вооружение весьма характерно. Скифы — легковооруженные лучники на маленьких степных конях, с небольшими сложными луками, носимыми в горите — треугольном колчане-налучьи, в натянутом виде на левом бедре.
Оружие близкого боя — это короткий меч-кинжал — «акинак» — и короткое метательное копье. Защитного доспеха нет вовсе. Как показала В. В. Гольмстен244, в рукопашном бою скифы, как правило, сражались пешими. Как конники, они выступают лишь в виде легкой и регулярной конницы, действующей в рассыпном строю и, осыпав врага стрелами, уносящейся в степь, чтобы подготовиться к новому, столь же неожиданному налету. Тактика, как видим, весьма отличная от тактики Сурены.
Судя по раннепарфянским изображениям воинов — тот же тип вооружения и тактики был характерен и для парфян до Сурены245.
Интересно отметить, что индо-сакские воины сохраняют некоторые черты скифского комплекса. В частности, мы видим у них скифский горите левой стороны246.
Всадники как индо-сакских, так и индо-парфянских монет, включая описанных выше катафрактариев, все сидят на низкорослых, коренастых скифских коньках, столь отличных от стройных длинноногих коней всадников древнего Хорезма, Согда и Восточного Туркестана.
Таким образом не в сакско-скифской в собственном смысле слова культурно-этнической среде мы можем искать истоков интересующего нас комплекса.
Крупную проблему представляет вопрос о происхождении того типа коня, который неразрывно связан с анализируемым типом вооружения и оказывается в одинаковой степени чуждым и скифам, и гуннам, и западному Ирану, где сасанидские серебряные блюда дают нам образ низкорослой коренастой лошади, [217] весьма мало похожей на высокого боевого коня нашего комплекса.
В конце II в. до н. э. восточную границу распространения этой породы, переживающей до сих пор в великолепных текинских и иомудских конях, мы можем провести в Фергане, «небесные потокровные лошади» которой были основным предлогом двукратного похода китайцев на Давань247. В Средней Азии эти кони в поздне-эллинистический период были достаточно распространены, как можно судить по замечательной поздне-эллинистической бактрийской чаше с изображением коней248.
Исследования современных иппологов, посвященные конским породам древнего Востока, выводят высокопородную лощадь конца II и начала I тысячелетия до н. э. с дальних восточных окраин древневосточного мира. Как известна, уже во времена Геродота по всему античному миру гремела слава замечательных коней Нессеи (***), которую большинство авторов отождествляет с Нишапуром249. При этом, однако, В. О. Витт совершенно справедливо отмечает:
«Уже во времена Геродота своим коневодством славилась не только Нессея, но и ряд других местностей к северу и востоку, по большей части подвластных Персии или граничащих с нею. Большую известность приобрели кони массагетов — кочевого народа, с которым Персии приходилось не раз вести не всегда победоносные войны»250.
Мы оставим, конечно, в стороне сложный и интересный вопрос о происхождении пород древневосточных лошадей, выступающих перед нами в хеттских, митанийских и ассирийских памятниках251. В свете выводов предыдущей главы нашего исследования, постановка вопроса о среднеазиатских, уже — о массагетских, связях была бы, нам кажется, небесплодной, хотя, пока памятники бронзового века Средней Азии остаются почти неизученными, здесь нельзя, конечно, достигнуть чего-либо большего, чем рабочей гипотезы252.
Во всяком случае подчеркнем отмеченные выше слова В. О. Витта, чтобы вспомнить их в конце этого параграфа.
Как Аниковское блюдо, так и восточнотуркестанские и согдийские его аналоги датируются VI — VIII вв., временем, достаточно далеко отстоящим от интересующего нас периода.
Но есть один археологический источник, который дает нам почти непрерывную линию истории комплекса вооружения хорезмийского конного воина на протяжении восьми столетий. Это — древнехорезмийские монеты. Самые ранние из них датируются второй половиной I в. до н. э., т. е. временем, очень близким к битве при Каррах.
На всех этих монетах реверс занимает изображение бога-всадника, легендарного прародителя династии Сиявушидов, сидящего на идущем вправо медленным, торжественным шагом боевом коне. Правда, не все детали вооружения здесь ясны. Но тип стрелкового оружия, с одной стороны, и тип коня — с другой, не оставляют никакого сомнения, что исследуемый нами комплекс Аниковского блюда в своих основных чертах в это время в Хорезме уже сложился.
Прежде всего мы видим висящим на правом боку всадника длинный, тяжелый расширяющийся книзу колчан. Положение и очертание колчана не оставляют сомнения в его типе. Это хорошо знакомый нам колчан Аниковского блюда, центрально-азиатский колчан в виде песочных часов. Натянутого лука в горите с левого бока, как на многих боспорских монетах, как на некоторых индо-сакских монетах, мы не видим. Есть все основания думать, что и лук с налучьем здесь соответствуют формам анализируемого комплекса. Колчан того же типа, неизменно висящий справа, мы потом видим на всех без исключения изображениях всадников на хорезмийских монетах, вплоть до VIII в. н. э.
Особенный интерес представляет в этой связи серебряная чаша из б. собрания гр. Строганова, ныне в Эрмитаже, с изображением охоты на тигров и львов253. Одежда и головные уборы всадников, трактовка их лиц, характерная деформация головы, — все это тесно связывает их с монетами Герая254 и не составляет сомнения в том, что эта чаша датируется концом I в. до н. э. или началом н. э. и происходит из Хорезма или, во всяком случае, из северной части Средней Азии. Правда, это не военная сцена, и поэтому участники ее лишены оборонительного доспеха. Но наступательное оружие налицо, и оно весьма показательно. Крупный боевой конь, чулкообразное налучье, длинный лук, [219] длинная пика и длинный прямой меч являются признаками того, что анализируемый нами комплекс вооружения уже вступил в свои права.
О раннем появлении этого типа вооружения свидетельствует датированное II — I вв. до н. э. рельефное изображение всадника на фрагменте сосуда из Джанбас-калы, держащего наперевес длинную пику, и, наконец, статуэтка коня из Базар-калы, типологически и технически восходящая ко времени вряд ли позднее III в. до н. э. Высокое тяжелое седло на спине коня не оставляет сомнения в том, что оно было рассчитано на катафрактария.
Арриан, при описании визита Фарасмана хорезмийского к Александру, говорит о сопровождавших царя 1 500 хорезмийских всадниках. Он ничего не говорит, к сожалению, об их вооружении, однако косвенные указания на него мы можем получить в другом месте у этого автора.
При описании столкновения Александра со скифами на берегу Сыр-Дарьи Арриан упоминает, что, когда македоняне открыли стрельбу по собравшимся на противоположном берегу скифам из стрелометных машин, «один, сраженный ударом наскозь через щит и латы, даже упал с лошади» (IV, 4). Так как никаких сведений о тяжелом вооружении скифов мы в других местах, несмотря на обилие описаний сражений, не встречаем, не исключено, что в составе скифов, противостоящих Александру на Сыр-Дарье, были и кангюйско-хорезмийские всадники и что бронированный наездник, пораженный стрелометной машиной, падение которого вызвало, по Арриану, смятение в рядах скифов, был один из хорезмийских военачальников. Напомню при этом, что одновременно с хорезмийцем Фарасманом для переговоров с Александром прибывает посольство заяксартских скифов (IV, 15), что, несомненно, указывает на известную согласованность действий между тем и другими.
Однако мы располагаем еще более древним свидетельством, позволяющим возводить зарождение вооружения хорезмийских катафрактариев к гораздо более раннему времени.
Древнейшее историческое свидетельство о тяжеловооруженной коннице в Средней Азии мы находим у Геродота и в восходящем к Гекатею тексте Страбона о массагетах, к которым, как известно, Страбон относил хорасмиев. При этом любопытно, что доспех массагетских катафрактариев изготовляется еще из меди.
«Сражаются они верхом на лошадях и пешие, знают оба способа войны; сражаются луками и копьями, вооружены обыкновенно и секирами. Все предметы у них из золота и меди: все, что требуется для копий, стрел и секир, приготовляется из меди; головные уборы, пояса и повязки украшаются золотом255. Также из меди делают они грудные панцыри для лошадей», — читаем мы у Геродота (I, 215).
«Они хорошие конные и пешие воины, вооруженные луками, мечами, панцырями, медными топорами, в битвах носят золотые пояса и золотые повлеки», — пишет Страбон (XI, 8)256.
Если таким образом применение тяжелой конницы в западном Иране имеет лишь эпизодический характер и получает широкое распространение в середине I в. до н. э. под явным влиянием с Востока, в то время как в приаральских степях этот род оружия зарождается по меньшей мере в VI — V вв. до н. э., большой интерес представляет история смены типов вооружения в степях Восточной Европы, известная нам гораздо лучше и связанная с переходом от «скифского» к «сарматскому» периоду их истории257.
Интересующий нас комплекс, в не совсем впрочем полном виде, мы находим достаточно широко распространенным у народов северного Причерноморья в этот последний период.
Особенно богато представлены изображения воинов-катафрактариев на высоких стройных конях типа наших «небесных коней» на керченских фресках склепа, открытого Ашиком, и склепа 1872 г.258. Прекрасный образец этого типа вооружения мы видим и на знаменитом рельефе Трифона259.
Особенно близки к хорезмийским катафрактариям панцирные всадники из склепа Ашика, броня которых доходит так же, как и у нас, до щиколоток. Некоторые из всадников имеют броню не из полуциркульных чешуи, а из квадратных бляшек, как и у некоторых хорезмийских всадников. Все эти памятники датируются первыми веками н. э. Однако Ростовцев прослеживает проникновение доспеха катафрактария [220] в виде чешуйчатого панцыря в Боспорскую область с Востока, вместе с сарматскими племенами уже с конца IV в. до н. э.260, придавая, однако, особое значение в распространении этого типа вооружения движению аланов I в. до н. э. и начала I в. н. э.261. Конец IV в. — дата весьма интересная в общем хронологическом контексте. Не надо забывать, что именно к этому времени и последней трети IV в. относится не раз цитированное нами свидетельство Арриана о западной экспансии Хорезма; царь которого распространил свои владения до границ колхов и амазонок. Начало I в. н. э. — это период, когда образование кушанского царства заставляет Кангюй-Хорезм активизировать свою северозападную политику, распространив свое господство на страну аорсов-аланов, собирая в частности дань пушниной с племен Приуралья (см. выше гл. 1 — 2).
Анализируя северно-черноморское вооружение, мы не можем не отметить рядом с чертами сходства и существенные черты отличия.
Панцырные всадники Причерноморья — это, как правило, копейщики. Ни на одной из росписей мы не увидим их вооруженных луками, как хорезмийские катафрактарии. А в тех случаях, когда мы встречаем лучников, то, уже помимо их легкого вооружения, мы видим их вооруженными традиционным скифским горитом — колчаном-налучьем, подвешенным с левой стороны262. Горит слева мы находим и на изображениях всадников на боспорских монетах263.
Следовательно, центральноазиатский комплекс представлен здесь лишь частично. Привычный способ употребления стрелкового оружия взял верх, что и понятно для народа лучников, который меньше всего был способен, конечно, отказаться от традиционной техники стрельбы. Однако хорезмийский тип стрелкового оружия все-таки проник в Причерноморье. И тот факт, что здесь мы его встречаем эпизодически и как раз в то время, когда получает широкое распространение доспех катафрактария, особенно убедительно демонстрирует направление, распространения всего комплекса.
Я имею в виду, во-первых, эпизодически встречающийся на изображениях сарматского времени твердый, длинный, прямой колчан особого типа, носимый с правой стороны.
Таковы всадники на двух надгробных стелах из Керчи, изданных В. В. Шкорпилом в 1914 г. и датируемых — первая I в. н. э., вторая — более [221] поздним временем264. Таков ряд изображений всадников, изданных Watzinger’oм265.
Насколько можно судить по этим изображениям, лук носился в спущенном виде, в особом цилиндрическом кармане на поверхности колчана.
Во-вторых, я имею в виду изображение на реверсе одной из групп боспорских монет (предположительно относимой Миннзом к фанагорийской чеканке) предметов вооружения, в числе которых слева виден спущенный лук, вставленный в узкое цилиндрическое налучье266.
Характерно при этом, что именно со второй намечаемой нами волной хорезмийских влияний на северное Причерноморье хронологически связана смена династий на Боспоре (видимо, 70-е годы I в. н. э.), причем, судя по именам (Аспург, Савромат, Рескупорид, Нотис), не подлежит сомнению ее связь с сарматскими элементами267. При этом, вместе с этой династией, как, почти одновременно, в Сакастане и сакских княжествах Индии, в тип боспорских монет входит изображение всадника268. Этот символ кангхско-хорезмийской государственности становится не менее характерным символом боспорской государственности I — III вв. н. э., и, наконец, что особенно существенно, как мы показали уже выше269, в политическую символику этой новой, савроматской (аспургианской) династии Боспора прочно входит один из вариантов кангюйско-хорезмийской тамги дома Сиявушидов ***, что позволяет нам сейчас, в свете всего вышеизложенного, уже не условно и гипотетично, а достаточно твердо выдвинуть тезис о том, что сфера господства различных ветвей кангюйских сиявушидов, больше того, одного из ответвлений именно хорезмийской ветви, охватывает в I — III вв. н. э., а частью и позднее, также и Боспорское царство, что, в свою очередь, проливает свет на смысл краткого сообщения хроники Младших Хань о далеких северо-западных данниках Кангюя.
Античные авторы отмечают целый ряд этнографических особенностей савроматов, резко выделяющих их из окружающего комплекса народов. Сюда прежде всего относится прочная традиция о комплексе гинекократических учреждений у савроматов, о происхождении их от амазонок (Геродот, IV, 110), о господствующем положении, которое у них занимали женщины (Диодор, II, 43) Николай Дамаскин, 122, Помпоний Мела (I, 116), III, 39: «amazones sed quas sauromatides appelant»; об активном участии женщин в военном деле и связанных с этим брачных обычаях (Геродот, IV, 117: «относительно брака соблюдается у них следующее правило: ни одна девушка не выходит замуж, прежде чем не убьет врага»; Помпоний Мела, I, 114: «у них женщины занимаются тем же, чем и мужчины, и не чужды даже войны. Мужчины служат в пехоте и сражаются стрелами; жены выезжают в битву на конях и не сражаются мечами, но, поймав арканом, умерщвляют врагов. Они вступают в брак, но у них правило для выхода замуж не по возрасту, а для тех лишь, которые убили врага, иначе они остаются незамужними»). Все это, резко выделяя савроматов из окружающих их скифских племен с доминирующими патриархальными обычаями, тесно сближает их с массагетско-хорезмийским кругом народов с его резко выраженным матриархальным комплексом. Нимфодор (Fr. 9) подчеркивает особую роль культа огня у савроматов, сравнивая их по этому признаку с персами и выделяя из прочих причерноморских племен. Этот признак также ведет нас в сферу приаральского очага культа огня — к древнейшему из священных огней зороастризма, помещенному Йимой в Хорезме. Туда же ведут нас известия о жертвоприношениях коней у сармат, ассоциирующиеся с описанными Геродотом для массагетов. Наконец, Диодор (II, 43) прямо указывает на «мидийское» происхождение савроматов, якобы выведенных скифскими царями из Мидии на Танаис. Мидию, думаю, здесь нужно понимать в обычном для времен Диодора, широком смысле слова — как всю территорию ахеменидского царства и связывать это предание не с геродотовскими индийскими походами скифов, а с его же традицией о движении скифов из-за Аракса под давлением массагетов, в качестве западного авангарда которых их, может быть, и надо рассматривать. Думаю, что на это же указывает и показание Помпония Мелы (III, 34), на этнографическую близость сарматов и парфян — юго-западного ответвления того же дахско-массагетского комплекса племен, северо-западной ветвью которого являлись савроматы.
Нам уже пришлось в свое время выдвинуть гипотезу о тождестве имени туркменского племени йомудов с именем сармат (Yo-mut <— *Yor-mut, отождествление, одобренное [222] Н. Я. Марром)270. Сейчас я хотел бы связать с этим спирантно-шипящим вариантом имени сармат самоназвание предков савроматов — амазонок по Геродоту (IV, 110) — Ойорпата. O+yor+pat. Оставляя в стороне напрасно всерьез принимаемую многими исследователями271 народную этимологию этого имени, я вижу в pat закономерный вариант mat («народ» от *mand), который нередко проявляется как раз при спирантизации первого элемента (ср. Kar-pat), а в первом, основном этнониме ту самую форму уоr, которую в 1935 году я под звездочкой реконструировал как основу yo-mut <— *yor-mut. Начальное О — префикс, обычный в этнонимике Приаралья (ср. mardoi~a+mardoi) в закономерном окающем произношении. Следовательно, в ойорпатах-амазонках, от смешения которых со скифами якобы произошли, по Геродоту, прикубанские савроматы, нужно видеть тех же савроматов, в одном из вариантов восточного, спирантизованного, оформления их этнического имени, до сих пор сохраненного в местах обитания гинекократических савроматов, массагетов, «скифов» царицы Аккагас византийского путешественника VI в. и тех «семи девушек», которые были беками огузова племени» по Абуль-Гази, у отдаленных потомков амазонок — йомутов.
Геродотом фиксируется таким образом начало движения на Запад иранизирующихся хорезмийских массагетов-савроматов, постепенно внедряющихся в этнографическую среду Северо-Восточного Причерноморья и ассимилирующихся с местными племенами, не теряя, видимо, все же какой-то формы политической связи с родиной, отраженной в словах Фарасмана Александру.
Не исключено, что в рассказе Геродота сохранены и некоторые детали пройденного ойорпатами-савроматами пути. Я имею в виду рассказ об их сперва морских, а затем конных скитаниях, предшествующих их смешению с прикубанскими скифами. Нам представляется возможным видеть в этом отголосок морского пути через северный Каспий от Черных Гор — Мангышлака, легендарной родины йомудов — на северо-восточное Предкавказье. У Геродота этот путь, увязанный им с греческой традицией об амазонках, получил, естественно, иную локализацию.
В этой связи представляет большой интерес этимология имени сармат (***, Sarmatae) — несомненно, представляющем (в первом элементе) стяжение более древней формы савромат *** — *** — ***.
Скилакс (с. 68) различает сирматов (***) и савроматов, помещая первых на западном, вторых на восточном берегу Танаиса. Автор Перипла Понта Эвксинского различает сарматов и савроматов.
В монетных надписях Боспора имена царей Савромата I и II транскрибируются CAVPOМАТНС, CAVPOMAT(OV).
Имя Савромат, как показал уже Маркварт272, представляет собой вариант того же имени; которое отражено в Авесте. (Яшт XIII, 143, XXI, 52) в форме саirimа (противопоставляемой именам Агуа и Тига) и впоследствии перешло в иранскую эпическую традицию в форме Salm с закономерным перебоем г //.
У нас нет никаких оснований следовать, как это делает Ростовцев273, за автором Перипла и примыкающими к нему источниками и видеть в савроматах Геродота и сарматах позднейших авторов разные народы: в первых — местных аборигенов Северо-Восточного Черноморья, во вторых — иранскую народность, пришедшую около IV века из Средней Азии. Не надо забывать, что для методологически неприемлемой для нас концепции Ростовцева крайне важно подчеркиваемое им якобы существующее между савроматами и сарматами резкое этнографическое различие. По его мнению, только первым присущи матриархальные учреждения, якобы чуждые арио-иранцам-сарматам. Источники говорят другое, распространяя систему гинекократических учреждений на тех и других.
В целом мы можем установить вероятное первоначальное звучание исследуемого имени в форме SwAYRi+mat, причем второй элемент имеет непосредственную яфетидо-иранскую этимологию «народ», следовательно — «народ SwAYRi». Восстанавливая всю цепь вариаций имени, мы можем изобразить ее как Sar <— Sawr° <— Swari (~Sayri) <— (*Swayri), видя в архетипе основу: начальный свистящий с губной артикуляцией, закономерную в свистящей ветви акающую огласовку, в исходе — гласный R, предшествуемый слабым спирантом и, при переходе в согласный, получающий в свою очередь огласовку — иррациональное i~o.
Африкаты Sw, закономерно противостоящей Xw (<—Kw), не знает индоевропейской консонантизм. Однако следы этого чередования, видимо, восходящего к доиндоевропейскому субстрату, бесспорно могут быть констатированы: ср. лат. equus (< — *а ekw u) — скр. acva., лит. asva (*aswa) «лошадь», ир. xware—>xur< — (< — * kwari) — «солнце» скр. suriya — svare «солнце» (ср. cvarga — «небо» *Swаri), откуда и солнце и т. д. [223]
Переход Swayri —> Sawr° — вполне закономерен при диссимиляции африкаты SW —> SW под слиянием избегания стечения согласных в начале слова и элементов губной гармонии: i—>o под влиянием смежного W.
Восстановление этого ряда не может не повести за собой сопоставления только что рассмотренного ряда Sar <— sawr° <— swayri с совершенно тождественным рядом в спирантной ветви: √Xar <— Xwari <— Xwayri в слове Xwayrizem.
Помимо полного, до малейших деталей тождества обоих основных элементов, поражает необычное для нормальной этнонимики и топонимики интересующей нас эпохи оформления обоих слов. В первом случае этноним дополняется словом «н а р о д», во втором топоним — словом «земля», «страна». Такое оформление, как известно, явление сравнительно редкое. В подавляющем большинстве случаев как этнонимический, так и топонимический термин выступает в чистом виде.
Семантические ассоциации исследуемого нами комплекса приводят нас к уже отмеченному скр. surya «солнце» (<— скр. Swar —> svarga — «небо», слав. С в а р о г — бог солнца <—> неба (в иранском, с закономерным переходом древнего Sw —> Xw — xwaria, xurr — «солнце» (хорезмийское axir («солнце»), н. перс, xur «солнце», xwar — «восток» и слав. Хорс — «бог солнца».
Форма Хорc проливает, может быть, свет на природу исходного плавного исследуемого имени. Видимо, здесь нужно искать африкату, обозначаемую Мейе для древнеперсидского через ***, африкату, которую можно, пожалуй, назвать шепелявым R; R с шипящим или свистящим призвуком.
В диссимиляции она дает rs (rs) —> (s); ср. Kusan <— KOPANO, KOPPANO, KOPCANO монетных надписей, Ask <— Arsak. Напомню, что Якут отмечает специфичность R в слове Xwarizm, говоря, что оно произносится как бы «под таждидом» (с удвоением) и приводя отрывок из Асади, где употреблена форма Xwarirazm, еще более подчеркивающая эту особенность.
В этой связи напомню приводимое Плинием (Ест. ист., VI (19), 17) указание, что «скифы называют персов хорзарами». Этот этноним в устах кочевников мог означать земледельцев в значении «народ солнца» (от Хорc — «солнце» + ар — долго держащийся в Приаральи суффикс образования этнических имен) и повидимому в сакском словоупотреблении первоначально связанное специально с ближайшим к сакам центром агрикультуры — Хорезмом, а затем перенесенным и вообще на оседлые народы, откуда и выступающее в сасанидское время Хорас+ан с другим суффиксом этнических имен — an <— gan.
Анализируя наше слово в тотемическом плане мы сталкиваемся с н. перс. axur — «конюшня» — от *xur — «конь» — ср. н. перс, har — «осел» xarbasak «кузнец», «коновал» и скр. hari — «конь» и одновременно одно из имен бога Вишну. Имя Хорезма открывается таким образом включающим в состав своей семантической нагрузки и имя основного тотема хорезмийских массагетов, так богато отраженного в монетной типологии в терракотовой пластике кангюйской эпохи — коня.
В мифологическом плане существенно вспомнить имя патрона хорезмийцев и мифического предка их династии Сиявуша — Syavars ( + an) Авесты. Оно тождественно с сибирянтной формой имени народа Swayri+mat и страны Xwayri+zem, имея патронимическое оформление +an (Сияварш+ан ср. славянское Сварож-ич!). Соответственно этому — закономерная связь Сиявуша с конем, — неизменным его атрибутом и солнцем — resp. огнем: огненная инициация Сиявуша, «второе рождение» от его истинного отца солнца.
Этому на первый взгляд противоречит установленная нами в предыдущей главе ассоциация Сиявуша с комплексом фратрии змея-коня.
Однако не нужно забывать сложного процесса мифологической циклизации, исследование некоторых элементов которой мы пытаемся дать в экскурсе III. Эпоха кристаллизации мифа о Сиявуше много позднее эпохи классического первобытного дуализма, время быстрого роста удельного веса солнечных воинственных богов, поглощающих и ассимилирующих родственные образы противоположной фратрии. Первоначальный хтонический характер славянского Сварога также имеет определенные указания: Ипатьевская летопись недвусмысленно сопоставляет Сварога с Гефестом274, богом подземного огня, нижнего, ночного неба. Мы видим, таким образом, что сарматская этнонимика, как и переживающий в славянском сарматский пласт мифологической ономастики, ведет нас туда же, куда ведут археологические и исторические свидетельства — в хорезмийско-массагетскую среду. [224]
III
Остановимся теперь на вопросе о возникновении входящего в комплекс оружия среднеазиатского катафрактария стрелкового вооружения, пути распространения которого мы таким образом проследили. Напомню его элементы: длинный, в спущенном виде — почти прямой, во всяком случае, слабо изогнутый, лук, в чулковидном, носимом на левой стороне, рядом с мечом, налучьи, и твердый колчан в форме песочных часов с крышкой, рассчитанный на расположение стрел остриями вверх и носимый на правом бедре.
Этот тип генетически не может быть выведен из скифского типа вооружения. Наиболее вероятным является его выведение из древнего типа вооружения оседлых среднеазиатских народов, кое-какие данные о котором мы можем почерпнуть у Геродота:
«Головной убор бактрийцев был очень похож на индийский, но луки у них тростниковые, бактрийские, и копья короткие… Арии имели луки мидийские, а остальное вооружение бактрийское… Парфяне, хораспии, согды, гандарии и дадики имели во время похода такое же вооружение, как и бактрияне… каспии одеты были в сисирны (тулупы), имели туземные луки из тростника и акинаки (скифские мечи — кинжалы)» (VIII, 64 — 67).
Таким образом в начале V в. до н. э. оседлые и полуоседлые племена Средней Азии, включая и интересующих нас хорасмиев, сражались, по преимуществу, в качестве лучников, вооруженных простыми тростниковыми луками. Сложный лук, столь характерный для скифских племен, был этим народностям неизвестен.
Этот-то простой, тростниковый длинный лук — с соответственно длинными тростниковыми стрелами без оперения расположенными в длинном цилиндрическом колчане остриями вверх и, вероятно, отравленными — отсюда крышка колчана — и может рассматриваться как исходная форма, которая породила интересующий нас комплекс вооружения. Из этнографических материалов мы знаем, что сложный лук в походном положении всегда носится натянутым. Напротив, простой лук, теряющий упругость от длительного пребывания в натянутом состоянии, носится, обычно, спущенным. Длинный деревянный «сарматский» лук, усиленный обвиванием жилами (см. рисунок поверхности лука всадника на щите с горы Муг) и, видимо, костяной обкладкой на концах, являлся усовершенствованием этого древнего оружия, не менявшим, однако, способа употребления. Лук можно и нужно было, как и простой, носить спущенным, введение оперения стрел создало расширение нижней части колчана, получившего форму песочных часов.
Этот своеобразный, совершенно индивидуальный тип вооружения мог возникнуть только в совершенно определенных историко-культурных условиях — в условиях скрещения оседло-охотничье-рыболовческих традиций древней речной земледельческой культуры — с влияниями сложившихся в условиях кочевой степи форм стрелкового оружия.
Кангха-Хорезм дает нам оптимальные условия для этого скрещения.
Роль Хорезма в истории стрелкового вооружения древней Средней Азии отражена и непосредственно в источниках. Так, «География», приписываемая Моисею Хоренскому275, и относящаяся, видимо, к VIII в. н. э., отмечает среди объектов вывоза из Хорезма «замечательные луки». Эту роль Хорезма как выдающегося центра производства луков подчеркивают и показания ранне-средневековых арабских источников. Так, как уже отмечал Маркварт, указания «Географии» Хоренского повторяет Макдиси, говорящий, что здесь изготовляются «луки, которые могут натянуть только самые сильные люди»276.
Мы знаем, что в условиях зарождения рабовладельческого общества, в городских общинах Востока и Запада неизменно складывалась, как наиболее адэкватная гражданскому ополчению полиса, форма тактики — тактика фаланги, сомкнутого строя копейщиков-щитоносцев. Это мы видим в городах Сумера, в Египте, в Греции, в Италии. Боевые колесницы неизменно сопровождают первые этапы этого развития — всюду, впрочем, по мере развития тактики тяжелой пехоты отступая на второй план. Конница здесь всюду играет второстепенную роль.
Г. Дельбрюк277, нам думается, прекрасно отразил сущность этого явления. Гражданское ополчение — не профессиональное войско, а тактика фаланги — единством действия сомкнутого строя целиком покрывает недостаточную профессиональную сноровку отдельного бойца. (Это не противоречит, конечно, тому, что впоследствии развивающаяся тактика фаланги потребовала также специальной, преимущественно физкультурной выучки.) Боевые колесницы, [225] бой которых требовал высокой индивидуальной выучки, неизменно отступает на второй план по мере отмирания старой родовой аристократии, создавшей и развившей этот вид боя. Кавалерия, развиваясь медленно, в этих условиях никогда не получает той роли, как некогда колесницы, сохраняя значение вспомогательного рода войск.
Иной характер приобретает развитие в условиях Кангхи — Хорезма, «плодородного земледельческого острова среди кочевнической степи», как именует его В. В. Тарн. Здесь с первых шагов развития земледельческо-городской культуры оазиса житель последнего на каждом шагу сталкивается с окружающими его со всех сторон конными кочевниками, в борьбе с иррегулярной кавалерией которых протекает значительная часть его жизни. Чтобы защитить свой домашний очаг от набега, древний хорезмиец не мог полагаться только на глиняные стены своих городов и селений. Он должен был уметь остановить и разбить врага в степи, не дав ему разграбить его поля. Но он не имел тех веков и даже тысячелетий, которыми располагал обитатель Египта или Месопотамии, чтобы противоставить иррегулярной коннице сложившуюся военную организацию и выработанную тактику линейной пехоты. Да и культурные традиции тесно связывали его с кочевниками, принадлежавшими к той же этнографической группировке, как и он. Оседлый массагет все же оставался массагетом. В результате мы видим создание массагетско-хорезмийского эквивалента античной фаланги — сомкнутого строя всадников-копейщиков и всадников-лучников в панцырных рубашках, на бронированных конях. И мы видим, что уже в конце VI в. массагетская конница оказывается уже в состоянии принять и решить в свою пользу бой с войском Кира — победителя в битве при Сардах.
Военное дело в другом из доахеменидских политических центров Средней Азии — в Бактрии, повидимому, развивается несколько иным путем. Правда, бактрийская конница фигурирует в описании войск Ксеркса у Геродота (VIII. 67). Однако ни здесь, ни в других источниках мы не найдем ни намека на ее особую тактическую роль. Наоборот, она фигурирует наряду с несомненно легкой конницей саков.
Роль, которую в массагетско-хорезмийской военной эволюции играют с самого начала катафрактарии, здесь, повидимому, как и в других странах древнего Востока и архаического Запада, играют боевые колесницы, поддерживаемые легкой конницей. В этом отношении характерно описание Аррианом действий союзных контигентов войск Дария III в битве при Гавгамелах:
«На помощь Дарию пришли индийцы, пограничные с бактрийцами, сами бактрийцы и согдийцы, над всеми ими начальствовал Бесс, сатрап бактрийской земли. Их сопровождали саки, одно из живших в Азии скифских племен. Они не были подданными Бесса, а лишь союзниками Дария. Вождем их был Мавак, и сами они были конными стрелками… Сатибарзан, арийский сатрап, привел ариев. Фратаферн привел парфян, гирканцев и тапуров; все они были на лошадях… Положение войска Дария было следующее: левое крыло занимали бактрийские всадники с даями и арахотами… на правом крыле стояли мидяне, рядом с ними парфяне и саки, затем тапуры и гирканцы… впереди, на левом крыле — скифские всадники и около тысячи бактрийцев со ста серпоносными колесницами» (Арриан, Анаб. Алекс. III, 8 — 11).
Золотая модель боевой колесницы из Аму-дарьинского клада является археологическим документом бактрийской тактики IV в. до н. э., в своей более ранней стадии выступающей перед нами в текстах Авесты (особенно в Михр-яшт) и в термине «ратхаеста» — «колесничие», которым в Авесте именуется военная каста.
Если, как мы видим, исследуемый нами комплекс исторически разъясняется из условий местного развития приаральских народов и является совершенно самостоятельным по отношению как скифскому, так и западно-иранскому и даже к бактрийскому, восходя в своих элементарных формах к массагетскому вооружению VI в. до н. э., мы, однако, не можем игнорировать возможных исторических влияний извне, отразившихся на его развитии.
И исходный пункт этих влияний мы видим не в Иране и не в Скифии, а в достаточно удаленной стране, взаимоотношения которой с народами Средней Азии до сих пор остаются темными.
Я имею в виду Ассирию. Роль этой могучей военной державы в мировой истории военного искусства до сих пор оценена в ничтожной мере. Между тем, памятники материальной культуры свидетельствуют о могучем развитии военной техники, о сложной структуре тактически дифференцированной армии, включавшей тяжелую (в том числе тяжеловооруженных стрелков) и легкую пехоту, тяжелую и легкую конницу, боевые колесницы, метательные и стенобитные машины — предвосхищавшие все основные средства греческой и римской полиоркетики278. [226]
В частности, стрелок-катафрактарий, как и катафрактарий, вооруженный длинной пикой279, — широко распространенная фигура на ассирийских рельефах.
И, если не считать типа стрелкового оружия, восходящего здесь и в массагетско-хорезмийском комплексе к разным местным традициям, в вооружении ассирийского и массагетско-хорезмийского катафрактария мы находим много общего.
Такова длинная, доходящая до щиколоток пластинчатая броня280 (встречающаяся рядом с короткой, спускающейся лишь до бедер)281. Такова характерная форма округленно конического шлема с притуплённым шишаком — столь характерного ассирийского шлема, имитацией которого являются аланские шлемы склепа Ашика282, и как дериват которого мы должны рассматривать шлемы Аниковского блюда283. Сюда же, наконец, могут быть возведены и маленькие круглые щиты аниковских всадников284.
Таким образом, целый ряд элементов хорезмийского вооружения может быть возведен к ассирийским прототипам.
Это сопоставление не представляется мне невероятным. Ассирийское воздействие на изобразительное искусство азиатской и европейской Скифии общеизвестно. Я думаю, что несмотря на тенденции новейшей историографии, указания Ктесия на ассирийские походы в Среднюю Азию, и особенно, на участие среднеазиатских народов, скифов и бактрийцев, в борьбе сперва на стороне Мидии против Ассирии, а затем — против унаследовавшей ассирийскую гегемонию Мидии — не могут быть сброшены со счетов. Если бы наш тезис можно было считать окончательно доказанным, хорезмийско-массагетское вооружение само по себе могло бы стать аргументом в пользу наличия в рассказах Ктесия исторически достоверного ядра. Пока мы на это не претендуем. Но все же гипотеза, согласно которой на развивающуюся под давлением местных военно-исторических условий массагетско-хорезмийскую тактику и связанное с ней вооружение оказала одновременно влияние наиболее передовая военная техника этой эпохи, мне представляется отнюдь не невероятной285.
В своем развитии интересующая нас массагетско-хорезмийская тактика, видимо, проходит два этапа: 1) Этап раздельного существования катафрактариев-копейщиков и катафрактариев-лучников (как мы видим и в Ассирии) .
Видимо, этот тип сложился уже к VI — V вв. до н. э. Вместе с хорезмийской экспансией в конце IV столетия этот комплекс проникает впервые в северное Причерноморье.
2) Этап господства катафрактариев-лучников, вооруженных одновременно и для дальнего и для ближнего боя.
Этот последний этап, нам представляется, исторически неразрывно связан с появлением на границах Средней Азии армии Александра Македонского. Александр, не удовольствовавшись усовершенствованием пехотного строя, на западе проделывает то же, что во мраке истории создается в эту же эпоху на далеком Востоке Персидской державы. С пехотой он сочетает линейную конницу копьеносцев, способную не только противостоять конным массам персов и их союзников, но и, во взаимодействии с фалангой, уничтожить их. И когда фаланги и илы Александра появляются в степях Средней Азии, оседлое население этих стран оказывается перед новой задачей: неуязвимая для иррегулярной кочевой конницы конница хорезмийских катафрактариев оказывается бессильной перед македонским войском, ибо последнее обладает не только такой же тяжелой конницей, но и великолепной пехотой, сомкнутый строй которой оказывается непреодолимым для конных копейщиков Средней Азии.
Из этого противоречия, нам кажется, и рождается поистине блестящее его разрешение: сочетание воедино лучника и [227] тяжеловооруженного всадника, переход к дальнему бою регулярной тяжелой кавалерии.
Сомкнутый строй одетых в тяжелые панцыри лучников на бронированных конях оказывается способным противостоять не только иррегулярной коннице, но и македонским копейщикам катафрактариям, и фаланге, и, как показала дальнейшая история, даже римскому манипулярному легиону. Наступательный порыв тяжелой пехоты парализуется и боевой порядок ее расстраивается градом стрел еще прежде, чем она достигнет железного строя всадников, но и достигнув его, она оказывается в невыгодном положении, наткнувшись на острия длинных пик и на бронированные груди коней.
Так родился тот тип лучника-катафрактария, который сыграл свою роль в битве при Каррах и многократно впоследствии проникал на Запад и Восток, накладывая свой отпечаток на историю позднеантичной и раннесрсдневековой конницы сасанидского Ирана286, Византии287, арабского халифата288, Китая289.
Первый же его крупный исторический дебют, остававшийся до сих пор скрытым от нас темным рядом немых столетий, — это выступление массагетов-юечжи, опрокинувших господство греко-македонян в Средней Азии и создавших великую Кушанскую империю от Хорезма до Хотана и от Арала до Бенареса, — империю, которая, несомненно, достойна занять почетное место в ряду четырех великих империй поздней античности, рядом с Римом, Парфией и Китаем. [230]

1 Н. К. Е. Kohlers gesammelte Schriften. Im auftrage der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaft. Herausgegeben fon Rudolf Stephani. Bd I. Serapis. Theil I. St. Petersburg. 1850. S. I, tab. II, № 1.
2 В транскрипции надписи, как мы увидим ниже, Кёлер попытался видеть искаженные греческие буквы не только в греческой части легенды, но и в хорезмийской, и плохо воспроизведенную тамгу царя принял за несколько знаков надписи.
8 Е. Thomas. Indo-Partihian Coins NG, 1870, New series, vol. X, p. 139 — 163. См. также J. RAS, vol. IV, New series 1870, p. 503 — 531, и Е. Thomas. Records of the Gupta Dynasty. London, 1876, p. 39 — 43.
4 В настоящее время все пять монет находятся в Гос. Эрмитаже.
5 Мы уже отметили, что последний не заметил этой тамги, приняв ее за несколько знаков надписи.
6 Records of the Gupta Dynasty, p. 39.
7 NC, 1870, р. 143.
8 Еdw. Thomas. Parthian and Indo-Sassanian. Coins. JRAS. 1883, стр. 73. рис. № 3.
9 А. Н. Зограф. Монеты Герая. Ташкент, 1937.
10 NC, vol. XV, Old series, p. 180, табл. 3; vol. XII, New series, табл. Ill, рис. 3. Ср. И. И. Толстой и Кондаков. Русские древности, III, 1890, стр. 12, рис. 5.
11 А. К. Марков. Неизданные арсакидские монеты. СПБ, 1892. (Отд. оттиск из ЗВОРАО, т. VI, № 32, 34, стр. 265 — 304. Ниже в ссылке даем пагинацию оттиска.)
12 RN, 1893, р. 119 — 130. Об интересующих нас монетах — стр. 129 — 130.
13 См. об этих монетах P. Lerch. Sur les monnais des Bukhar-Khoudads ou princes de Bukhara avam la conquete de Maveraunahr par les arabes. Travaux de la III session du Congres International des Orientalistes. St. Petersburg. 1876, v. II, p. 419 — 429. Его же. Монеты бухар-худатов, ТВОРАО XVIII, стр. 1 — 161.
14 Е. I. Rapson. On the attribution of sertain silver Coins of sassanidan fabrik. NC, 1896, p. 246.
15 Предварительное сообщение о наших монетах см. в нашей статье: Основные вопросы древней истории Средней Азии. ВДИ, № 1 (2), 1938, стр. 190 — 191. Публикация сборов1937 г. см. в нашей статье: Монеты шахов древнего Хорезма и древне-хорезмийский алфавит, ВДИ, № 4(5), 1938, стр. 120 — 145.
16 Вскоре после нас к определению имеющихся в Ташкенте монет этого типа как хорезмийских пришел М. Е. Массон. См. его работу «К определению древне-хорезмийского алфавита», Сонат 1938, № 6, стр. 57 — 69. М. Б. Массону осталось неизвестным последнее определение А. К. Маркова (см. ниже) и значительная часть литературы, посвященной нашим монетам, в том числе и первая их публикация.
17 Description topographique et historique de Boukhara par M. Nerchaky, Texte persan publie par Ch. Schefer. Paris, 1892, p. 34 — 36.
18 E. Drouin, Les monnais touraniennes, RN 1891.
19 Allote de la Fuye. Monnais incertaines de la Sogdiane et des contrees voisines, RN IV. IV serie, t. XXIX. 1926, p. 140 sq.
20 3KB, I, 1925, стр. 430.
21 Collection de monnaies sassanides de feu le lieut.-general I. de Bartholomae, publie par B. Dorn. 2 ed. SPB. I, 875, таблицы IV, VII, также дополнительная таблица, рис. 6 — 11 и др.
22 И. А. Орбели и К. В. Тревер. Сасанидский металл. М. — Л., 1935, табл. 1; Толстой и Кондаков. Русские древности, III, 1890, стр. 12, рис. 4.
23 И а к и н ф. Собрание сведений, III, стр.147, 160, 162, 176, 183, 186, 188, 189, 197, 201 и др.
24 А. Н. Зограф. Монеты «Герая». Ташкент, 1937.
25 NC. 1874, стр. 161 сл.
26 Records of the Gupta dynasty. L, 1876, стр. 35.
27 Allote de la Fuye.-Monnais incertaines, RN XXVI11, 1925, стр. 36 сл. К этому чтению уже в 1938 г. примкнул W. Tarn, см. ниже.
28 Indian Antiquary, X, стр. 215 и др.
29 Цит. соч., а также JRAS 1883, стр. 73 сл.
30 Die Nachfolger Alex d. grossen. 7 Л. N. В. VI, 1879, стр. 373 сл.
31 Цит. соч.
32 N. С. 1888, стр. 47 сл.
33 P. W. VIII, стр. 420.
34 Indian Coins, стр. 9.
35 Цит. соч.
36 Arethuse, 1928, стр. 19 сл.
37 Зограф, цит. соч., стр. 14.
38 Цит. соч., стр. 15 — 27.
39 Цит. соч., стр. 24.
40 Там же.
41 Цит. соч., стр. 25.
42 Цит. соч., стр. 27 — 28.
43 Цит. соч , стр. 82.
44 Цит. соч., стр. 30.
45 Цит. соч., стр. 30 — 31.
46 Цит. соч., стр. 30 — 31.
47 Цит. соч., стр. 31, прим. 1.
48 Цит. соч., стр. 14.
49 Цит. соч., стр. 31.
50 М. Е. Массон в своей цитированной выше работе (стр. 68, прим. 13) признает возможным считать Хорезм местом чеканки монет Герая.
51 ВДИ, 1938, № 4.
52 ВДИ, 1939, № 2.
53 См. экскурс I.
54 После выхода работы А. Н. Зографа вопрос о монетах Герая продолжал разрабатываться в литературе. Его касается В. Тарн в своей книге Greeks in Bactria and India (1938). По его мнению «Миай» (он предпочитает употреблять это чтение, хотя и не настаивает на нем — цит. соч., стр. 39) — кушанский ябгу современник и союзник Гермея (которого он, в согласии с Гутшмидом, отождествляет с узурпатором Инь-мо-фу Хоу-Хань-шу), правившего в Александрии — Капице в третьей четверти I в. до н. э. Миай, по мнению Тар на (стр. 342 сл.; ср. также Арр. 17, стр. 503 сл.), правивший где-то между Читралом и Пянджишром, инспирированный старыми союзниками юечжи-китайцами, помог Гермею изгнать саков из Кабула и восстановить там на известное время греческую власть. За эту услугу Гермей якобы дал Миаю в жены свою дочь, чем и объясняется выпуск потомком Миая — Кадфизом I — «pedegree coins» в честь Гермея.
Монеты Герая чеканены, по Тарну, после описанных выше событий в Кабуле греческими мастерами (стр. 506).
Слово *** в надписи он оставляет необъясненным, решительно и убедительно возражая и против чтения шаньюй и против чтения «сака».
Гипотеза Тарна составляет часть его очень сложной и во многом крайне гипотетической конструкции истории греков в Индии в предкушанский период. Не берусь быть судьей в вопросе, требующем скрупулезнейшего специального исследования, к тому же весьма далеком от нашей темы. Скажу лишь одно: гипотеза Тарна, если отбросить голословную локализацию им резиденции Миая (здесь, бесспорно, прав А. Н. Зограф), ни в какой мере не противоречит моей.
Вторая новая работа, упоминающая монеты Герая, это посмертная «Wehrot und Arang» Mapкварта, стр. 88, где автор пытается связать с Гераем передаваемую Бируни кабульскую легенду об основании неким *** (Маркварт исправляет текста Бируни на t) Кабульского царства.
*** Бируни, по Маркварту, восходит к *** (тюркским титулом Тегин — «князь» — заменен юечжийский однозначный титул ***).
55 См. например, A. Cunningham. Later Indo-Seythians, Ephtalites or with Huns, NG 1894 III Series, w. 53, p. 262 и на табл. IX (VII) № 1,6, 7, 11, 14, 15, X (VIII) № 14, 15, 16; XI (IX) № 1, 2, 6, 9 и др.
56 Н. Веселовский. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве, СПБ, 1887.
57 W. Tisenhausen. Notice sur une collection des orientales de la comte S. Stroganoff. SPB 1880, №161.
58 Так, по Бартольду («Туркестан», II,стр. 207) И. И. Трофимов («Хронологическая таблица мусульманских династий». Ташкент, 1897, стр. 29) датирует правление ал-Фадла ибн Яхья 794 — 803 гг.; по Бартольду (там же, стр. 503) в 796 — 806 — 7 или 808 гг. в Хорасане правил Алий ибн Иса. В 783(782) — 787 гг. в Хорасане правил (Бартольд, там же, стр. 503) Абул-Аббас Фадл ибн Сулейман ат-Туси. Имя на наших монетах может быть, хотя и с меньшим вероятном, отнесено и к нему.
59 И. И. Трофимов, там же, стр. 28.
60 Бартольд, там же, стр. 207; Т р о ф и м о в (там же, стр. 29) дает дату 791 — 793.
61 Nerchakhy, цит. соч., стр. 34 — 36; Л е р х. Монеты бухар-худатов, стр. 59 сл.; Бартольд, там же, стр. 209. Еще несколько раньше в Хорасане, при наместнике Муссейибе ибн Зухейре (780 — 783), стали чеканиться так называемые диргемы Муссейиби (Бартольд, стр. 211),
62 См. И.И. Мещанинов. Загадочные знаки Причерноморья. ИГАИМК 62,1933, стр. № 6, рис. 3; В. Латышев. Древности юга России. М. А. Р. — 9, 1892; В. Ш ко р п и л. Заметка о рельефе на памятнике с надписью Евпатерия. ИАК, в. 37,1940; Ростовцев. Дек. живопись, табл. XXXIII; E. Minns. Scythians and Greeks, табл. VIII, 26; A. Gotze в Mannus 1, 1909. стр. 121 — 123, рис. 2 — 4, табл. XIX и мн. др.
63 В. Юргевич. Камень с загадочными знаками. Зап. Одесск. общ., XV, 1879.
64 В. В.Шкорпил. Боспорские надписи, найденные в 1910 г. Изв. арх. ком., 40, 1911, стр. 113 — 111.
65 Ант. дек. жив., стр. 298 сл.
66 Зап. Одесск. общ., XV, 1889.
67 Изв. Арх. Ком., 43, стр. 16 — 33.
68 Артамонов. Средневековые поселения на Н.Дону, 1933, стр. 91 — 92.
69 Б. А. Рыбаков. Знаки собственности в княжеском хозяйстве Киевской Руси. СА VI, 1940, стр.232.
70 См. Пресняков. Задачи синтеза протоисторических судеб В. Европы. ЯС V.
71 Herzfeld. Iran in ancient East, p. 175, fig. 295 d.
72 В. А. Городцов. Сармато-дакские религиозные элементы в русском народном творчестве. Труды ГИМ I. М. 1926.
73 См. U. F. S i г е 1 i u s. Die Vogel und Pferdmolive der karelische u. ingermanlandische Broderien. «Studia Orientalia» I, Helsinki 1925, стр. 385, рис. 39 — 42.
74 А. А. Ф р е й м а н. Находка согдийских рукописей и памятников материальной культуры в Таджикистане. «Согдийский сборник», Л. 1934, стр. 13.
75 Chronologie Orientalisсher Volker von Alberuni. Herausg. v. Dr. G Eduard Sachau, Lpz. 1923 s. 35 (араб. текст). The Chronologie of ancient Nations. An english version of the Arabic text of the Athar ul Bakiya of Albiruni. Trans. and edited by Dr. С Eduard Sachau. Lond., 1879.
76 Тан-шу, гл. 21 в., стр. 5а; Иакинф, Собр. сведений, III, стр. 246. ***
77 Впрочем, здесь можно видеть и аршакидо-пехлевийское восходящее к арамейскому S, которое здесь может служить вероятнее всего для передачи звука с — с.
78 Н. Reichelе. Die soghdischen Handschriftenreste des Britischen Museums II, Heidelberg 1931, 1, 5, 6. III, 9, 34, 10, 33; VI, 2. Ср. новоперс. *** «сияющий», «блестящий», осет., фаерухс *** и *** и (-ун «стать светлым». Ср. также в сасанидской титулатуре *** pr’r Hrmizde-Farr Horrnizd) farraxu Sahpuhre.
79 Я думаю надо читать *** имя, известное нам в форме *** из отчета Менандра, как имя одного из западно-тюркских вождей VI в.
80 Или с — с (см. выше, прим. к стр. 188).
81 Сходные формы тау мы находим в старосирийском, эстрангелло, сипаитском, в Иране — в сасанидском пехлеви и зендском.
82 Или Арсамуч (Арсамуц), так как ***
близко к ***, которым с передавалось в арабском (в арабской транскрипции слов для с (с) мы имеем у ал-Бируни) ***, а в хорезмийских документах XIV в. *** легко предположить в данном случае описку у переписчиков ал-Бируни.
83 Ср. «Согдийский сборник», стр. 40 и др.
84 J. Rapson. On the attribution of certain silver coins… N C. III ser. XXVI 1926, стр. 246. Нашу легенду в целом он читает: Та-r; ga-ta-sh Rhu-da, чтение в целом неверное, но интересующую нас лигатуру *** читает правильно.
85 Ср. начертание *** на ряде недатированных монет Средней Азии, изданных Allofe de la Fuye, RN 1910, p 301; 1925, p. 31, 163, стр. 144 — 147. Прототипом здесь является арамейское ha ахеменидского периода. Ср. также начертание ha и хет в квадратном письме.
86 Ср. конечный иод в сасанидском пехлеви.
87 Т а б а р и, П, Ser. II, стр. 1238; ибн-ал-Асир, 4,4 51;
88 См. Иностранцев, ЖМНП 1911.
89 История СССР, изд. ИИМК, 1930, III:IV, стр. 410.
90 А. Н. Зограф. Монеты Герая, стр. 5 — 6, 21.
91 Furdoon D. Y. Paruck. Sasanian Coins. Bombay, 1924, p. 38; cp. Mordtmann в ZDMO, 1880, S. 149.
92 «Восточное серебро». Атлас древней серебряной и золотой посуды восточного происхождения, найденной в. пределах Российской империи. СПБ., 1909, табл. XVIII — XX и CXIV. А. В. Шмидт (цит. соч.), опираясь на близость письма на этих чашах к согдийскому, определяет среднеазиатское происхождение чаш 42, 44, 45, 46, 47, 72, а также блюд 68, 69, 36.
93 Восточное серебро», стр. 6.
94 Там же, стр. 7.
95 А. И. Т е р е н о ж к и н. К истории искусства Хорезма. «Искусство», 1939, № 2. Ср. так же: И. А. Орбели и К. В. Тревер. Сасанидский металл. М. — Л., 1935, табл. 20. Об этом блюде см. также F. Sarre. Die Kunst des alten Persiens. Berlin, 1925, S. 69. Tabl. 100.
96 Для с ср. начертание согдийского с, которому в хорезмийском закономерно соответствует с.
97 Ср. согдийское имя ‘xwrmztkk (Ahuramazdaka). Reichelt, II, 45. (V, 30).
98 Отметим близость некоторых из начертаний этого слова в наших (особенно чаша) с начертанием идеограммы ZWZN (драхма) в аршакидо-пехлевийском авраманском тексте (Herzfeld. Paikulu I, s. 82). Так как второй знак наших надписей неизменно отличается от М в идеограмме MN и других словах, может быть здесь возможно видеть лигатуру знаков WZ и читать также ZWZN — драхма.
99 Exhibition of Persian Art. London, 1931, рис. 10В. F. Sarre. Die Kunsl der alten Persiens. Berlin, 1923.
100 G. Trever. Terracottas from Afrasib. Leningrad, 1934, Табл. VII — VIII.
101 P. Sarre und E. Herzfeld. Iranische Felsreliefs. Berlin. 1910, табл. на стр. 35, рис. второй справа в нижнем ряду (поправку в подписях к рисункам см. там же, стр. 252).
102 Там же, стр. 37, первый справа в верхнем ряду, первый слева во втором ряду, стр. 39.
103 Е. Н. Minns. Scythians and greeks. Cambridge. 1913.
104 Г. Вейс. Внешний быт народов с древнейших до наших времен, т. I, рис. 179, а, б.
105 О. Weber. Die Kunst der Hethiter. Orbis Pictus, ср. табл. 2,5.
106 E. Н. Minns, цит. соч., стр. 158, 128 и дp.
107 A. Gotze. Hethither, Churriter und Assyrer. Oslo. 1935, табл. 19. Г. Вейс, Внешний быт, 1,1 рис. 182 на стр. 288.
108 Е. Н. Minns, цит. соч., стр. 370, рис. 268 (статуэтка воина в трёхрогом головном уборе с наушниками, держащего в руках поднятые вверх меч и щит, найдена в Керчи, Одесский музей).
109 ВДИ, 1940, № 2, стр. 16, 17. Я должен обратить внимание на сохранение в современной женской одежде туркмен-теке почти в неизменном виде древнего комплекса хеттской женской одежды (ср. одежду женщины на табл. 19 у А. Gotze. Hethither. Churriter und Assyrer. Oslo. 1936, с одеждой текинских замужних женщин и головной убор хеттской царицы с табл. 26 у В. Weber. Die Kunst der Hethiter. Orbis Pictus I с головным убором туркменских девушек. Если мы учтем, что массагетский этнический пласт наиболее крупную роль сыграл именно в туркменском этногенезе, а в теке мы можем видеть почти прямых потомков дахов (см. БДИ, 1938, № 1), то это сохранение хеттского комплекса одежды у туркмен рядом с отмеченными нами хетто-фракийскими параллелями древнего хорезмийского костюма может существенно подкрепить наш тезис
110 Страбон, XI, 88.
111 См. нашу работу «Средняя Азия во II — I вв. до н. э.», История СССР, I — II, изд. АН СССР. М. — JI., 1939, стр. 304, а также ниже, гл. IV — 3 и экскурс 1,6.
112 Т рев ер. Памятники греко-бактрийского искусства. Л., 1940, стр. 86.
113 А. Н. Зограф. Монеты «Герая». Ташкент, 1937, стр. 33, рис. 1. О связях монет Герая с Хорезмом см. выше, а также нашу рецензию в ВДИ, 1939, № 2.
114 См. нашу статью в ВДИ, №4, за 1938 г., стр. 142.
115 Там же, стр. 140.
116 Там же, табл. 1 — 8. см. особенно трехрогий головной убор на табл. III, рис. 9.
117 И. А. Орбели и К. Б. Тревер. Сасанидский металл. М. — Л., 1935,табл. 20; ср. статью А. И. Тереножкина в «Искусстве», № 2 на 1939 г. Если аргументация А. И. Тереножкина, отправляющегося исключительно от архитектурных особенностей изображенного на блюде замка, который, несмотря на всю его близость афригидским замкам, мог, конечно, изображать и замок какой-либо другой области Средней Азии, и не является бесспорной, то бесспорным ко стилистическим, типологическим и техническим признакам является вхождение этого блюда в группу хорезмийских изделий — чаш, определенных нами по палеографическим и иконографическим данным как хорезмийская.
118 A. von Cog. Bilderatlas zur Kunst und Kulturgeschichte Mittelasiens. Berlin, 1925. Passim.
119 См. автореферат нашего доклада «Хорезмийский всадник», КС ИИМК, 1, 1939, стр. 9, а также ниже, гл. IV, III.
120 См. изображение всадника чаши — 46 с изображениями атласа von Le Coq’а, стр. 38, 39, 40 и сл.
121 Истахри, BGA 1, стр. 304, МИТТ 1, стр. 180.
122 См. нашу цит. работу «Средняя Азия в II — I вв. до н. э.», стр. 304 — 305, а также КС ИИМК, 1,1939, стр.8. См. также ниже, экскурс 1,6.
123 Б. Грозный, цит. соч.. стр. 31 — 32.
124 F. Sarre. Die Kunst der alten Porsiens. Berlin, 1923.
125 Ср. гандхарскую статуэтку у von Le Cop’а, стр. 92, рис. 197.
126 Ср. изображенную на одном из гандхарских рельефов богиню, сидящую на льве, опустив в одну сторону ноги y Grunwedel, цит. соч., стр. 101 (рис. 46, тип богини Сарасвати).
127 Выдвинутая недавно К. В. Тревер более ранняя дата (II в. до н. э.) мало обоснована (Памятники греко-бактрийского искусства, стр. 33 — 34). Впрочем, дата Гандхары сама по себе для нашей темы имеет второстепенное значение, так как трудно предположить возможность проникновения в Хорезм буддийских мотивов до включения его в царство кушанов.
128 См. нашу заметку «К вопросу о монетах Герая» ВДИ, № 2 за 1939 г., а также выше, гл. IV, I.
129 Е. Herzfeld. Archeological History of Iran. London, 1936, стр. 71.
130 Мухаммед Hepшахи. История Бухары. Перевод Лыкошина под редакцией В. В. Бартольда. Ташкент, 1897, стр. 30 — 31.
131 В. В. Бартольд. История культурной жизни Туркестана. Л., 1927, стр. 48.
132 С датировкой их Г. В. Григорьевым ахеменидским временем мы не можем согласиться и предпочитаем видеть в них, как и в наших кангюйских статуэтках, памятники III — I вв. до н. э — I в. н. э.
133 Труды Отдела Востока Эрмитажа, II, Л. 1940, и стр. 88 — 91, табл. 1, рис. 3 и 5.
134 Е. Sachau. Zur Geschichte und Chronologie der Khwarizm, стр. 2.
135 Яшт, V, 54, 57.
136 Ср. по этому поводу также работу Иностранцева в ЖМНП, февраль 1911, стр. 316. Трудно, конечно, принять во внимание совершенно не аргументированное утверждение, что теория Маркварта «кажется слабо обоснованной и исторически и географически не совсем понятной» и создание своей собственной, весьма мало доказательной гипотезы об Эранвеже — Согде, в новой работе К. В. Тревер. Труды Отдела Востока, П. Л., 1940, стр. 30.
137 Ср. A. Hermann. Alte Geographie des unteren Oxusgebiets.
138 Яшт, V, 3, 4, 38, 42, 104, 116.
139 Первоначальную свою попытку искать в изображении на печатях в Тешик-кала образ одного из бодисатв (ВДИ, 1939, № 3, стр. 196) я склонен считать ошибкой. Отметим в этой связи, что A. Stein, также трактовавший первоначально изображение бородатого четверорукого божества из Дандан-Уйлык как образ одного из бодисатв, переломленный через иранскую художественную среду (как выражается Stein — Persian Bodisatvah. Ancient Chotan. 1, стр. 279 — 280, II, табл. XI), то впоследствии, в связи со своими открытиями в Кух-и-Ходжа в Сеистане, он пришел к выводу, что в изображении в Дандан-Уйлык мы имеем сеистанского эпического героя Рустема, включенного в местный хотанский пантеон. См. А. Stein. On ancient Central-Asian Tracks. 1933, стр. 64 — 67, табл. 32. Видимо, индо-буддийское оформление туземных божеств является достаточно характерным не только для Хорезма.
140 Ср. образ «хеттской богини», постоянно изображаемой стоящей на льве. Weber, цит. соч., табл. 9.
141 К. В. Тревер. Памятники, стр. 96, сл., табл. 28.
142 И. Орбели и К. Тревер. Сасанидский металл, М. — Л. 1935, табл. 22; Смирнов. Восточное серебро, XXI — 48 и СХ-285.
143 Chronologie Orientalischen Volker von Alberuni Herausg. v. Ed. Sachau.
144 Ср. Шах-намэ изд. Wullers. II, стр. 596 и др.
145 М. И. Ростовцев, Бог-всадник на юге России, в России, в Индо-Скифии и в Китае. Seminarum Kondakovianum I, 1927, стр. 144. О лунном боге-всаднике и стрелке у народов ближнего, среднего и дальнего Востока см. Hentze. Les Myths et Symboles Lunairs. Anvers. 1930.
146 M. И. Ростовцев. Святилище фракийских богов и надписи бенефициариев в Ай-Тодоре, Изв. имп. Археологической комиссии, 40, стр. 19 сл.
147 Его же. Античная декоративная живопись, стр. 178 — 179.
148 См. нашу статью «Хорезмийский всадник», КС ИИМК, № 1, 1939.
149 М. И. Ростовцев. Античная декоративная живопись, стр. 430 — 431.
150 Schaferr, статья «Sabazios» P. W. Zweite Reiche, 1,1541.
151 Я не могу в этой связи не напомнить имя божества «индоевропейских хеттов», патрона города Nesas, которое, в изданной в 1929 г. Б. Грозным надписи, звучит как Siusi (mis) или sijus (mis) — В. В. Нroznу, L’invasion des Indoeuropeens en Asie Mineure vers 2000 av. J. С. А. О. v. 1,1929, стр. 299. В тексте надписи строка 39 Siusu (mmis) ilu Si-u-sum-m, строка 47 ilu Si-i-us-mi-is. Это имя одинаково близкое к имени хорезмийско-массагетского Сиявуша и фрако-фригийского Саобадза-Сабазия (mis несомненно лишь суффикс собственных имен), даже, пожалуй, более близкое к первому, позволяет прибавить к постоянно накапливаемой нами цепи хеттско-массагетских связей еще новое существенное звено. Еще более поразительным является совпадение теофорного, восходящего к имени Сиявуша — Шауша, имени хорезмшаха VIII в. н. э. Шаушафара с именем митаннийского царя Шаушатара.
152 Шах-намэ, изд. Mohl II, 236.
153 Там же, II, 197 сл.
154 «Она родила дитя, прекрасное, как пери, лицо которого напоминало одного из идолов Азербайджана» (II, 200).
155 Чрезвычайно характерная подробность, говорящая о большом архаизме мифа о Сиявуше. Отдача ребенка на воспитание посторонним людям — типичная черта народов, сохранивших материнско-родовую организацию, переживавшая у нас на Кавказе до недавнего времени в виде обычая аталычества.
156 II, 208 сл., особ. 224 — 225, 226 — 227 сл.
157 II, 270 — 271. Отмечу чрезвычайно интересную деталь рассказа о втором заговоре Судабэ — рассказ о рождении у колдуньи близнецов — детей Аримана (***), вводящую рассказ о Сиявуше в круг близнечных мифов. На этом мы подробнее остановимся ниже (см. экскурс III, стр. 288 сл.).
158 II, 236 — 237 сл.
159 II, 248 — 249 сл.
160 II, 338 — 339. Описание Кангдиза 340 — 341 сл. Важно отметить, что резиденции Афрасиаба также называется Канг.
161 II, 348 — 349 сл.
162 Как уже не раз отмечено выше, ал-Бируни помещает место действия Сиявуша в Хорезме. Это сохраняется и в позднейшей хорезмийской традиции. Еще в XIX в. персидский посол Риза-Кули-хан записал предание о происхождении названия Хорезм, связанное с легендарной битвой между мстителем за Сивуяша Кей-Хосровом и его дедом — убийцей Афрасиабом.
163 Нершахи. Перевод Лыкошина, стр. 33. В пользу наличия не только в Бухаре, но и в Пейкенде, места культа Сиявуша, связываемого с его гробницей говорит показание Са’либи (перев. Zotenberg, стр. 685), о том, что по взятии Пейкенда Бахрам Чубином (ок. 589 г.), этот последний захватил, в числе прочей добычи, «сокровища Афрасиаба и Арджаспа и корону, пояс и серьги Сиявуша» (ср. Chavannes, Doc, стр. 243). Видимо, «гробниц Сиявуша» и мест, с которыми связывали арену его деятельности, было немало, и бухарская легенда ни в какой мере не противоречит неоднократно цитированному нами показанию ал-Бируни, связывающему место деятельности Сиявуша с Хорезмом. Решающим является вопрос об идентификации Кангхи-Кангдиза, которую связывает с Сиявушем древнейшая традиция, а также вопрос о центре происхождения династии Сиявушидов. Если мы правы, видя во всаднике хорезмийских монет Сиявуша — это существенный аргумент в пользу хорезмийского происхождения Сиявушидов и Хорезма как центра древней Кангхи-Кангюя.
164 Цит. по Ed. Chavannes, Doc, стр. 132, прим. 5.
165 Фрэзер сам приводит первую часть рассказа Вэй-цзе в главе своего труда, посвященной анализу этого института. См. «Золотая ветвь», русск. перев., изд. «Атеист», 1928, II, стр. 128.
166 Стоит отметить передаваемое Танской историей предание о происхождении династии царства Кан (Самарканд, Бухара, Кабудан, Ташкент, Маймург, Кушания, Хорезм, Вардана, Кеш): «Они происходят от ю е ч ж и, которые некогда жили в городе Ч ж а о-в у к северу от гор Цзилянь. Потерпев поражение от Тукюэ (в Суй-шу правильнее — хунну), они отступили постепенно на юг через горы Цунлин и вступили во владение этой территорией»… «Все (правители государств области Кан) из дома Чжао-ву». Китайские интерпретаторы, находящиеся под влиянием литературной традиции о юечжи, и в транскрипциях, упоминаемых в предании имен, и в их идентификации, ищут эти места в провинции Гань-су и других восточных областях. Я склонен придавать гораздо больше значения не китаизированным транскрипциям названий гор, а направлению движения — с севера на юг, подчеркнутого в тексте и, несомненно, восходящего к первоисточнику. В Чжао-ву — название легендарного города — я считаю наиболее вероятным видеть Канг-и-Сиявуш (или Сиявушгирд), а в имени царского дома Чжао-ву — имя фамилии Сиявушидов, пришедших в Согд и, в частности, в Самарканд с севера из-за гор (Нура-тау, Букан-тау), за которыми их предки вели длительную борьбу с кочевниками. Таково, видимо, историческое зерно этого китаизированного предания.
167 Цит. соч., стр. 30 — 31.
168 Фрезер, цит. соч., III, стр. 50.
169 Наши выводы и заключения о связи мифологического и эпического образа Сиявуша с Кангхой и уже — с Хорезмом, как центром Кангхи, находят свое подтверждение, помимо свидетельства Бируки в чрезвычайно поучительном, хотя и одиноком сообщении ибн-Хаукаля (в одном из вариантов его перечня царских титулов Средней Азии, в другом варианте — хорезмшах), что хорезмийские цари носили титул Xосров-и-Хорезм ***.
170 Напоминаю в этой связи, что в пережиточно тотемических верованиях Средней Азии козел до сих пор является одним из наиболее популярных животных. Ярким свидетельством этого являются нагромождения рогов жертвенных козлов на каждом мазаре — в частности и на мазарах Хорезма — хотя бы в Наринджан-баба и Султан-баба.
171 Цит. соч., стр. 235.
172 Ростовцев. Античная декоративная живопись, стр. 59 и особенно 179, прим. 3.
173 Статуэтки коней с седлом и без седла и всадников очень широко распространены во всех областях Средней Азии (ср. С. Trever. Terracottas from afrasiab. Leningrad. 1934; Г. В. Григорьев, Труды Отдела Востока Эрмитажа, II, табл. 1,4; М. Е. Массон. ТАКЭ, стр. 74, 77, 79 и др.), но нигде, насколько нам известно, они не образуют столь подавляющего большинства среди всех добытых статуэток, как в Хорезме.
174 Ср. восточно-туркестанское изображение верблюдов у A. Stein’a Ancient Rhotan II, табл. XI, VII, В, 001, V. 009. V. 0012; М. Е. Maссон, ТАКЭ, стр. 74, рис. 44.
175 Ср. Г р и г о р ь е в. Археологическая разведка в Янги-Юльском районе Уз. ССР. Ташкент, 1934, стр. 32.
176 Ср. М а ссон, ТАКЭ, стр. 75.
177 Sarre. Die Kunst der alten Persian, Tabl.
178 М. Voyevodsky. A summary Report of a Khwarizm Expedition. Bull. Amer. Inst. for Iran Art and Archeology. 5, 1938, № 3.
179 См. нашу статью «Религия народов Средней Азии» в сб. «Религиозные верования народов СССР», I, M. 1931, и «Пережитки тотемизма и дуальной организации у туркмен», ПИДО, 1935, № 9 — 10.
180 См. КС ИИМК, УI, 1940, стр. 72 и, особенно, нашу статью «Древности верхнего Хорезма», ВДИ, 1,1941, а также выше, глава III, II. Г. В. Григорьев правильно, на наш взгляд, связывает с тотемическими верованиями добытые им изображения животных из Каунчи, ошибочно им относимые к середине первого тысячелетия до н. э., а на деле — синхроничные нашим кангюйско-кушанским статуэткам. См. Г. В. Григорьев. «Археологическая разведка в Янгиюльском районе Уз. ССР», Ташкент, 1933, стр. 32.
181 Как нам любезно указал В. Д. Блаватский, аналогичные украшения жаровен головками коней отмечены в ряде средиземноморских памятников римской эпохи.
182 Ши-цзи, CXXIII, 3а.
183 Тан-шу, ССХХI, в 4в.
184 Ши-цчи, ССХIII, комментарий к стр. 3а.
185 В. И. Масальский. Туркестанский край, под ред. Семенова-Таньшанского, т. XIX, СПБ, 1913, стр. 753.
186 West, стр. 43 (End. XIV.18), стр.18 (Bnd. IX, 1С).
187 Яшт, XX.
188 О первобытных корнях авестийского дуализма см. нашу статью «Черты общественного строя Восточного Ирана и Средней Азии по Авесте», I т. академической «Истории СССР», стр. 185 — 187, а также ниже, экскурс III.
189 Яшт, XIX, 38; Яшт, VII, 29; SBE V, стр, 27; SBE VII.8.
190 Вендидад, 1, 8.
191 Гиппокамп в греко-бактрийском искусстве см. Я. И. Смирнов. «Восточное серебро», 1909, табл. СХХ, рис. 47; К. В. Т р е в е р. Проблема греко-бактрийского искусства, III Международный конгресс по иранскому искусству и археологии. Доклады. М. — Л. 1939, стр. 286. Гиппокамп в буддийском искусстве В. Туркестана см. von Le Coq, цит. соч.
192 См. нашу работу в ПИДО, № 9 — 10, за 1935 г.
193 См. изображение носорога в уйгурской миниатюре текста этой легенды, данное на стр. 8 издания Вang’а и Rachmati.
194 В этой связи стоит упомянуть афрасиабскую статуэтку всадника на слоне, выполненную, впрочем, гораздо менее реалистично, чем наш носорог. С. Trever. Terracottas. 1,161.
195 ВДИ, 1938, № 4, стр. 141 — 144, рис. 2 и 4; ВДИ, 1939, № 3, стр. 195 — 196, отс. 20.
196 A. S t e i n. Ancient Khotan, табл. XVI — XVII. Ср. изображения обезьян и музыкантов на среднеазиатской чаше кушанского времени в атласе Смирнова, табл. XXXVIII, 67; см. также Тревер. Памятники греко-бактрийского искусства. Л. 1940, стр. 81, табл. 19 — 21.
197 Ср. ВДИ, 1038, 4, стр. 145, 1939, стр. 190; КС ИИМК, VI, стр. 73 — 74.
198 Ал-Макдиси, BGA, III, cтр. 284 — 285; МИТТ 1,стр. 185.
199 Плиний, VI, 16, 46.
200 М. Моммсен. История Рима, III, M. 1941, стр. 279 — 286. Ср. Г. Дельбрюк. История военного искусства в рамках политической истории, I, Воениздат, 1936, стр. 354 — 356, который явно недооценивает значение боя при Каррах в истории тактики конницы (типичное для этого автора пренебрежение к военному искусству народов Востока).
201 Нельзя, конечно, не учитывать в каррской катастрофе и ряда второстепенных факторов, определивших поражение римлян — непривычные и тяжелые природные условия, переход арабов Абгара на парфянскую сторону, наконец, посредственные способности самого Красса как полководца. Но решающим моментом, безусловно, остается тактика тяжеловооруженных конных стрелков.
202 Цит. соч., стр. 281 — 282.
203 Цит. соч., стр. 219.
204 Цит. соч., стр. 228 — 229.
205 Цит. соч., стр. 62 — 63.
206 Ср. Дельбрюк, цит. соч., стр. 155.
207 Ф. Энгельс. Кавалерия. В сб. «Избранные военные произведения»), I, Госвоениздат, М. 19. 6, стр. 225.
208 Э н г е л ь с, цит. соч., стр. 226.
209 Ср. Дельбрюк, цит. соч., стр. 324. Катафрактарии, употребленные Тиграном II против Лукулла, также никакой тактической роли в битве под столицей Армении не сыграли.
210 В битве при Кунаксах, когда схватка катафрактариев решила исход войны между Киром младшим и Артаксерксом, тяжелая конница входит в бой как личная охрана обоих вождей, располагаясь в центре боевого порядка впереди линии фронта. По существу, здесь мы имеем дело с весьма архаическим типом построения, восходящим к традиции первобытных поединков вождей, решающих бой. Так в действительности и произошло при Кунаксах.
211 Cp. J. de Morgan. Manuel de Numismatique orientale, t. I. Paris 1923 — 1936, стр. 136, рис. 140.
212 Там ж е, стр. 171, рис.184. Монеты Артавазда (227 — 228 н. э.).
213 F. S a r r e. Die Kunst der alten Persiens, табл. 51.
214 Дальнейшая история войн Рима и Парфии подтверждает наш тезис о решающей роли момента неожиданности применения новой тактики в исходе боя при Каррах. Уже в 38 г. до н. э. римлянам при помощи союзных аланских контингентов — таких же катафрактариев — удается нанести поражение парфянам. В дальнейшем римляне разрабатывают ряд тактических мероприятий, ослабивших парфянскую тактику: действие против катафрактариев развернутым строем, усиление удельного веса стрелков и пращников, применение разнообразных маневров и военных хитростей, мешавших их противникам полностью использовать положительные качества тяжелой конницы. В этом отношении особенно показательны события, связанные с борьбой римлян против роксоланской тяжелой конницы в Мизии в 51 г. н. э. В предшествующем году роксоланские катафрактарии уничтожили римское войско. Тогда римляне, выждав, когда роксоланы рассыпались по стране дли грабежа и когда распутица сделала затруднительным маневрирование катафрактариев, напали на них и почти всех уничтожили (Тацит, История, 1, 79).
215 London. 1935, стр. 63 сл.
216 См. ниже эксурс I.
217 de Morgan, цит. соч., стр. 375, рис. 471 в.
218 Там же, стр. 377, рис. 474А.
219 Там же, стр. 379, рис. 476В.
220 См. также ниже, экскурс I, стр. 230 — 231.
221 Laufer. Chinese Clay Figures, p. 1. Prolegomena on the History of Defensive Armour. 1914, pp. 215 сл.
222 Ср. публикацию археологических находок из Монголии гуннского времени. Archeologia Orientalis N. Series vol. 1 Inner Mongolia and the Region of the Great Wall. Tokyo and Kyoto 1935, стр. 62 — 63.
223 M. Rostovtzeff. The animal style in south Russia and China. Princeton Univ. Press 1929, стр. 107, пр. 14.
224 A. von Le Coq. Bilderatlas zur Kunst und Kulturgeschichte Mittelasiens, Berlin, 1925.
225 Ф. Розенберг. ИОН, 1932, № 5, стр. 453.
226 И. А. Орбели и К. В. Тревер. Сасанидский металл. М. — Л. 1935,табл. 20; F. Sarre. Die Kunst der alten Persiens, табл. 105; А. И. Tepeножкин. К истории искусства Хорезма. «Искусство», 1939, №2.
227 Я. И. Смирнов. Восточное серебро, XXIII, 50.
228 F. Sarre und E. Herzfeld. Iranische Felsreliefs, табл. XXXVII. В обоих случаях перед нами — царь, более чем тесно связанный с народами Средней Азии.
229 F. S а г г е. Die Kunst der alten Persiens, табл. 86.
230 Там же, а также табл. 101, 107, 108 и др.
231 F. Sarre. Die Kunst der alten Persiens, табл. 38. Ср. также табл. 19 (дворец Дария в Персеполе), 27 (дворец Ксеркса), 52 (изображения воинов на геммах).
232 Толстой и Кондаков, II, стр. 147, рис. 124.
233 Ebert Rd. Vorgesch., II, стр. 51, табл. 19а. Там же, табл. 21.
234 Там же, табл. 19в.
235 A. von Le Coq, цит. соч., passim, особенно рис. 32 и 33
236 Ср. В. Laufer, цит. соч. von Le Coq, рис. 99.
237 Ср. изображения всадников на писаницах г. Сулек у Н. Appelgren — Kivalo. Alt altaische Kunstdenkmaler. Hels. 1931. Ср. также А. М. Tallgren. Inner asiatic and Siberian Rock Pictures E. S. A. VIII, 1933, стр. 184, рис. 12с, стр. 199, рис. 37.
238 См. вооружение всадников, изображенных на бронзовых бляхах конского убора из Копенского Чаатаса. Л. А. Евтюхова и С. В. Киселев. Десятый сезон Саяно-Алтайской экспедиции. КСИИМК III, 1940, рис. 12.
239 A. von Le Coq, цит. соч., рис. 97.
240 А. Я. Якубовский. Культура и искусство Средней Азии. Л. 1939, стр. 27. Я должен обратить внимание, что при всем сходстве вооружение всадников Аниковского блюда, согдийского щита и восточно-туркестанских фресок однотипно, но нетождественно, что еще раз подчеркивает не согдийское и не синцзянское происхождение нашего блюда и является лишним аргументом в пользу его хорезмийского происхождения. Панцырь согдийского воина не чешуйчатый и не пластинчато-наборный, как панцыри хорезмийские, а состоит из горизонтально расположенных полос металла или, возможно, твердой кожи. Налучье более широкое и свободное и совсем иначе орнаментированное. Обращает внимание характерное украшение на голове коня — отсутствующее у аниковских коней и т. д. Да и стилистически согдийский всадник, исполненный с характерным для искусства Согда утонченным изяществом, резко отличен от более лапидарных, напряженных и суровых образов аниковских всадников, прекрасно вяжущихся со всем стилем «древневосточного» по своему облику хорезмийского изобразительного искусства (см. выше IV, 2).
241 A.von Le Coq. цит. соч.
242 Я. И. Смирнов, Восточное серебро. № 46; ВДИ, 1938, № 4, стр. 142.
243 Следует отметить, что уже Ростовцев обратил внимание на сходство кушанского, известного по изображениям на монетах и скульптуре, и северочерномор ского сарматского вооружения (особенно конический шлем, конская сбруя и др.), Animal style, стр. 60, прим., стр. 107, прим. 2, стр. 111, прим. 15. Ср. A. F о и с h e r. L’art greco-bouddhique du Gandhara. II, 1918, табл. С, р. 15 и 17.
244 В. В. Гольмстен. К разработке приемов исследования вещественных памятников (меч и сабля). Сообщение ГАИМК 1932, № 11 — 12.
245 Парфянские графитти из Дура Европос, изображающие катафрактариев, относятся к более позднему времени и, весьма вероятно, изображают воинов из восточных областей Парфии.
246 См., например, монеты Djihunia или Zeionises’a сатрапа Таксилы около 10 г. н. э., который изображен легковооруженным всадником с натянутым луком в горите с левой стороны, de Morgan, цит. соч., стр. 380, рис. 477.
247 О проникновении среднеазиатской породы боевого коня в Китай, начиная с конца II в. до н. э., см. исследование W. Perceval Jetts. The Horse; a factor in Early Chinese History E. S. A. IX, 1934, стр.231 — 255.
248 К. В. Тревер. Памятники греко-бактрийского искусства, стр. 90 сл., табл. 25, 26. Ср. В. О. Витт. Лошадь древнего Востока, стр. 20, рис. 8 — 9.
249 В. О. Витт, цит. соч., стр. 18.
250 Там же, стр. 19 — 20.
251 См. по этому вопросу В. Hrozny. L’entainement de chevaux chez les anciens indo-europeens d’apres un texte mitannien hittite prevenant du XIX sieсle av. J. C. A. O. v. III, № 3, 1931, стр. 431 сл.
252 Впрочем, кое-кто уже дает схематическое изображение всадника среди наскальных знаков Хорезма, датируемых нами бронзовым веком.
253 Смирнов Я. И. Восточное серебро. XXXIX, 68; Т р е в е р К. В., цит. соч., стр. 87 — 90, табл. 22 — 24.
254 Т р е в е р, цит. соч., стр. 89. Впервые это сопоставление было выдвинуто нами в докладе «Хорезмийский всадник» на декабрьском пленуме ИИМК 1938.
255 Золотой пояс — характерная особенность воинского убора всадников Аниковского блюда. По данным арабских источников, в VIII веке, золотые пояса были отличительным признаком дихканской аристократии Согда и вербующегося из ее среды конного ополчения.
256 На массагетскую «аристократию бронированных воинов на бронированных конях» указывает В. В. Тарн (цит. соч., стр. 181), используя эти данные для своей тенденциозной «феодальной» теории.
257 См. M. Rostovtzeff. Iranians and Greeks in South Russia, Oxford 1922,стр. 121. Его же. Античная декоративная живопись на юге России. СПБ, 1914, стр. 328 сл.; В. В. Гольмстен, цит. соч.; В. М. Равдоникас. Пещерные города Крыма и готская проблема в связи со стадиальным развитием Северного Причерноморья. Готский сборник, ИГАИМК, XII, в. 1 — 8,1932, стр. 79; История СССР, изд. ИИМК. М. — Л., 1939, стр. 332.
258 Ростовцев. Античная декоративная живопись, табл. XXIX, XXXI, рис. 2, XXXVIII, рис. 2.
259 Ростовцев. Античная декоративная живопись, табл. XXXIV, рис. 3.
260 Ростовцев. Античная декоративная живопись, стр. 334. Золотая пластинка с изображением сармат из Геремесовского кургана, табл. XXXV, рис. 2; панцирная рубашка из кургана близ Мокиевки, раскопанного Бранденбургом. рис. 63 и 64 на стр. 335 — 336 и остатки аналогичных панцырей в др. погребениях (библиографию см. Декоративная живопись, стр. 335). В другой работе М. Ростовцев (The Animal Style in South Russia and China. Princeton. 1929, стр. 45) на основании близости элементов сарматского звериного стиля с таковыми Бактрии (Аму-дарьинский клад), Северной Индии времен Чандрагупты и Ашоки (Таксила, Пенджаб, Гандхара), и поздне-ахеменидских памятников Суз (цит. соч., стр. 41 — 44, стр. прим. 3, стр. 59), приходит к существенному для нас заключению, выводя сармат из Средней Азии, из тесно связанного с Бактрией района. Это в одинаковой мере относится и к первой (конец IV — III вв. до н. э.) и к второй устанавливаемой им волне (II в. до н. э.) сарматского движения.
Согласно гипотезе Ростовцева сарматы — это «саки, обитавшие у Аральского моря и между Аралом и Каспием», которых Ростовцев отождествляет с массагетами и дахами греческих источников и которые начали вторгаться в «скифскую империю» Северного Причерноморья в конце IV — III вв. до н. э. в результате ударов, нанесенных им на их родине Александром, ранними селевкидами и ранними бактрийскими и парфянскими царями. Вторая, гораздо более массовая сарматская миграционная волна, окончательно разрушившая «скифскую империю», была, по Ростовцеву, вызвана ударом, нанесенным приаральским сакам с востока движением, юечжи, в свою очередь сдвинутыми с места гуннами.
Эта реконструкция предпосылок движения, которую дает Ростовцев и которую он и не пытается аргументировать, является, конечно, чистым домыслом, и, как мы показываем ниже, исторически не подтверждается. Однако весьма убедительной остается археологически обосновываемая этим исследователем первая часть его построения: о Приаралье как исходном центре сарматского движения и о массагетско-дахском (но отнюдь не сакском, в собственном смысле) их происхождении. В сущности говоря, Ростовцев стоял на правильном пути и в постановке второй части своей гипотезы, пытаясь найти причину движения в политических событиях в Средней Азии IV — II вв. до н. э. Но не подвергнув свидетельства об этих событиях самостоятельному анализу, он оказался в плену упрощенной и, как мы увидим, глубоко неверной концепции самого характера этих событий.
Большой интерес представляет вместе с тем и другая сторона теории Ростовцева (Animal Style, стp. 100 — 106), его заключение о первоначальных носителях и создателях «нового» или «сарматского» «звериного стиля» в искусстве ханьского Китая и Северного Причерноморья. По его мнению, таковыми были юечжи: «If not the inventors, the Jue-Chiwere certainly the carriers of the new animal style, and it is probably the Jue-Chiwho, brought this style to South Russia» (Animal style, стр. 105). Территориальная экспансия этого стиля делает гипотезу Ростовцева весьма правдоподобной, с той, однако, поправкой, что в юечжи нужно видеть не чуждый сарматам народ с высоких плоскогорий Тибета, а, как мы не раз пытались выше и ниже показать, тех же самых массагетов, одной из иранизированных ветвей которых были хорасмии.
261 Цит. соч., стр. 342.
262 См. склеп 1875 г. Декоративная живопись, табл. XXIII, рис. 4; Керченская стела, Декоративная живопись, табл. XXXIV, рис. 1 — 2; расписной саркофаг 1900 г., там же, табл. ХСIII, рис.2 и 1. Ср. Б. Н. Minns. Scythinus and Greeks, стр. 67.
263 Ср. монеты Котиса II (124 — 132 н. э.), Толстой и Кондаков. Русские древности. II, стр. 28, рис.2.
264 В. Шкорпил. Боспорские надписи, найденные в 1913 г. ИАК, в. 54; 1914 г., стр. 72, рис. 2, стр. 75 — 76.
265 Watzinger. № 574, 591, 626, 627, 650; ср. Толстой и Кондаков, II, стр. 73, рис. 55.
266 См. Minns, цит. соч., табл. IX, 21.
267 История СССР, изд. ИИМК, М. — Л. 1939, I — II, стр. 347.
268 См. Ростовцев. Представление о монархической власти в Скифии и на Боспоре. ИАК, в. 49, стр. 22 сл., табл. IV, 4,6, 7, 9, И.
269 См. выше, гл. IV, § 1.
270 С. П. Т о л с т о в. Пережитки тотемизма и дуальной организации у туркмен. ПИДО, 1935, № 9 — 10.
271 PW BIA стр. 254 2 сл. (К. Kretschmer, Sarmatae).
272 Eransahr.
273 Iranian and Greeks, стр. 113 — 114.
274 ПСРЛ, II, 5. Ср. Фаминцын. Божества древних славян, Спб. 1884 г., стр. 144, ср. также стр. 183, где намечается некоторая ассоциация между культом Сварога и культом Сабавия — другого двойника Сиявуша.
275 Marquart. Erangahr, стр. 141, 155; Иностранцев, ЖМНП, 1911, стр. 195.
276 BGA III, стр. 325; МИТТ, I, 202.
277 Г. Дельбрюк. История военного искусства в рамках политической истории, 1, М. Воениздат, 1936, стр. 115.
278 Ф. Энгельс (Избранные военные произведения 1, М., 1936, стр. 223 — 224) отмечает роль ассирийской конницы в истории военного искусства древнего мира. Однако, нам думается, что в этом вопросе можно итти несколько дальше Энгельса, считавшего, что все же Ассирия обладала лишь иррегулярной конницей (это повторяет и Б. Разин. История военного искусства, 1, стр. 37). Не надо забывать, что почти единственным источником, из которого мы узнаем о действиях ассирийской армии, являются рельефы, которые, естественно, не могут дать представления о действиях целых подразделений и о боевом порядке в целом. Однако все же из них мы можем заключить, что ассирийская армия была разделена на правильно организованные подразделения разных родов оружия, действовавшие в строгом взаимодействии между собой, причем это распространяется не только на пехоту (что признает и Е. Разин), но и на конницу, делившуюся на тяжелую, среднюю и легкую, на лучников и копейщиков, причем каждая группа была однообразно вооружена и обмундирована.
279 Р. Handсосk. Mesopatamian archeology. London 1912, стр. 355, рис. 107.
280 Там же, цит. соч., табл. XVII.
281 Там же и possia.
282 Декоративная живопись, табл. XXXVIII, рис. 2.
283 В этой связи интересно поставить вопрос о возможном посредничестве аланско-хорезмийской среды в переносе ассирийского типа шлема в комплекс русского вооружения.
284 Handсоск, стр. 356, рис. 108, и др.; О. Weber. Assyrische Plastik. Orbis Pictus. В. XIX., табл. XXV.
285 Конечно, встает вопрос, чем объяснить распространение этого вооружения и тактики на далеком Востоке, в то время как в западном Иране в непосредственном соседстве с Ассирией эта тактика не привилась? Я думаю, что объяснение здесь лежит в том, что в Персии и Мидии не было столь сильных предпосылок для развития этого типа вооружения, как в хорезмийско-массагетской среде. В Персии основным видом войск были пешие легкие стрелки и копейщики и союзная кочевническая иррегулярная конница, игравшая вспомогательную роль. Мнение о персах, как о народе конников (ср. Е. Разин, цит. соч., стр. 40), глубоко ошибочно. Катафрактарии, вероятно, типа ассирийских, были, по Ксенофонту, в составе лейб-гвардии персидского царя в очень небольшом количестве (1000 человек) и тактической роли почти не играли.
286 См. по этому вопросу интереснейшее исследование К. А. Иностранцева. Сасанидская военная теория в его книге «Сасанидские этюды», СПБ. 1909, стр. 41 — 81, особенно 78 сл.
287 Там же. Видимо, через Византию, где строи лучников-катафрактариев впервые был широко применен Велизарием, военная школа которого сложилась в борьбе с северо-черноморскими варварами наследниками сармато-аланской, resp. хорезмийско-массагетской традиции, эта традиция оказала влияние на развитие тяжеловооруженной конницы Средневекового Запада. Впрочем, не исключено и непосредственное влияние сармат и алан на западно-европейских варваров. В эпоху поздней империи военные поселения сармат зарегистрированы даже на территории Англии. См. J. A. Richmond, The Sarmatae, bremetennacum veteranorum and the Regio Brometennacensis. Journ. of Roman Studies XXXV, 1945. А движение алан вплоть до Испании и Северной Африки в эпоху великого переселения — общеизвестно.
В еще большей мере хорезмийская военная традиция, не только через отдаленное посредство европейских сарматов, но и непосредственно в ранне-средневековый период, вероятно, через тесно связанных с Хорезмом хазар и ранних кочевников южнорусских степей (печенегов и др.) оказала влияние на развитие древнерусской конницы. Тяжеловооруженный конный дружинник домонгольской Руси, панцырный лучник-копейщик в «ассирийском» шлеме, с твердым, закрывающимся крышкой колчаке у правого бедра. — почти тождественен хорезмийскому всаднику с Аникевского блюда.
288 См. цит. соч. Иностранцева, стр. 51, прим. 4.
289 См. В. Laufer и von Le Coq, цит. соч.